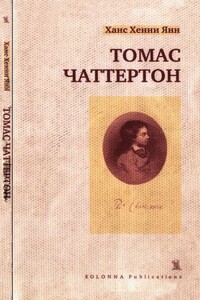Свидетельство Густава Аниаса Хорна | страница 17
— Хорошая история! — сказал Тутайн. — И ведь когда-то давно она была подлинной жизнью и подлинными чаяниями человека, который думал о смерти не меньше, чем о жизни. Который, может, и жил только ради того, чтобы умереть в соответствии со своими желаниями, ибо считал, что конец жизни важней, чем ее начало.
— Ручаюсь, что все так и было, — сказал я. — Мне уже исполнилось одиннадцать или двенадцать лет, когда старый слуга, прозябавший в приюте для бедных, навестил мою мать. Я сидел в комнате, когда он вошел. Я увидел его ужасно покрасневшие, слезящиеся глаза. К слезам примешивался гной. Мама налила ему шнапса, настоянного на черной смородине. Он отказывался, утверждая, что теперь воздерживается от алкоголя. Но когда учуял пряный аромат напитка, а мама продолжала его уговаривать, он не смог долее противиться соблазну. И стал рассказывать о хозяине. Ведь другого содержания в его жизни не было. Десятилетие за десятилетием он вместе со своим господином проходил через все испытания, навязанные скупостью. Как слуга доктора, как его кучер. Он сидел на облучке коляски в потрепанном пальтеце — днем ли, ночью ли, в любое время года, под пасмурным небом. Его прозвали Козлиным кучером, потому что его хозяин носил куцую бороденку и был тощим, как козел. Старик рассказал историю тех ста талеров и — что он пропил их за один месяц. Он ведь никогда не позволял себе удовольствий, а деньги держал в руках только в виде медяков. Он в ту ночь внезапно почувствовал себя бедным и богатым одновременно. Бедным — потому, что втайне надеялся, что богатый хозяин хотя бы после смерти выплатит ему жалованье, которое задолжал за десятилетия, относительно которого обманул своего слугу… Богатым — потому, что за одноразовую вахту у гроба, которая длилась только половину ночи, он получил так много серебряных талеров… Он плакал, думая о себе и о хозяине. Это было именно в ту ночь, в склепе, рядом с двумя саркофагами. Он в который раз обрушивал на умершего почтительные жалобы и упреки… А лошадь — жеребца, принадлежавшего доктору, — тогда же отдали живодеру, настолько это животное исхудало. И старика обвинили в том, что он будто бы истязал лошадь. Сыновья покойного указали ему на дверь, вместо того чтобы проявить благодарность или хотя бы на словах выразить признательность; впрочем, когда он разговаривал с ними, он уже был совершенно пьян. В завещании его не упомянули, если не считать тех ста талеров, выданных ему за особую службу. — Моей маме не хватило терпения, чтобы внимательно выслушать старика. Она и так знала, о чем он будет говорить. Кроме того, говорил он неотчетливо и невразумительно. Его язык был как круглый, малоподвижный ком. Старик уже много лет не вступал в разговоры и жил в состоянии постоянной вражды со всеми обитателями приюта. Да и зубов у него почти не осталось. Он часто прерывался, смахивал слезы с глаз. Мама щедро доливала ему. Шнапс успокаивал его дрожащие руки…