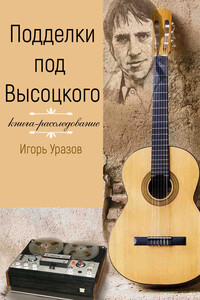Чернильница хозяина: советский писатель внутри Большого террора. | страница 4
Уже к середине 1920-х годов стало понятно, что, несмотря на все программные заявления о рождении нового пролетарского искусства, авангард так и не сумел завоевать массовую аудиторию и плохо справлялся с задачей распространения марксистской идеологии в плохо образованной стране. Даже в столице публика устала от радикальных художественных экспериментов: новаторские «Баня» и «Клоп» Маяковского в постановке Всеволода Мейерхольда по большому счету провалились, зато на булгаковских «Днях Турбиных», которые даже близко не могли считаться образцовой советской пьесой, во МХАТе стабильно был аншлаг.
>Сцена из спектакля «Дни Турбиных» в Московском Художественном театре. 1928 год
>РИА «Новости»
МХАТ — самый яркий пример сбоев в советской культурной политике: больше чем через десять лет после революции главный театр страны, в который регулярно приезжало высшее руководство во главе со Сталиным, так и не имел в репертуаре выдержанной в партийном духе пьесы на современном советском материале. Создателям самой влиятельной театральной школы ХХ века, основанной на психологизме и подтексте, просто нечего было ставить. Многие советские драматурги приносили свои пьесы во МХАТ, но раз за разом выяснялось, что для того, чтобы играть шаблонных большевиков и классовых врагов, не нужна система Станиславского.
Афиногенов взялся исправить этот недостаток. Ему удалось найти «философский камень» советского искусства: один из первых он сумел перевести передовицы «Правды» и речи партийных вождей на язык драматургии и совместить острый сюжет, узнаваемых персонажей и идеологическую выдержанность. Он отказался от изображения революционных масс на сцене и перенес сценическое действие в комнатные интерьеры — вполне в духе Чехова и Ибсена, которых он и считал примерами для подражания. Для драмы такого типа необходима была фигура сомневающегося интеллигента, и тут Афиногенову повезло: в самом начале 1930-х годов в партийной печати снова вспыхнула дискуссия о том, что делать с «попутчиками»[2]. Враги революции были высланы, уничтожены или лишены прав, а «попутчики» вроде как и сочувствовали большевистскому проекту, но медлили раствориться в партийных рядах. Это создавало пространство для драмы: между абсолютным злом и абсолютным добром оказывался человек, которому предстояло сделать выбор.
>Храм Христа Спасителя. 1931 год
>ТАСС
Пятого декабря 1931 года в Москве снесли храм Христа Спасителя, а 24 декабря во МХАТе первый раз сыграли пьесу Афиногенова «Страх». Перед премьерой он записал в дневнике: «Сегодняшний день решает все. <…> Говорят, будет весь Кремль. <…> И ужасная тоска щемит. <…> Вдруг гроб, треск, провал, — а завтра, завтра газеты разнесут, и пошла, пошла катавасия, и ото всего здания, как от храма Христа, — останется меловая гора». Однако тревога Афиногенова была напрасной.