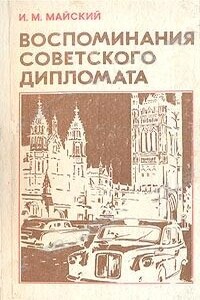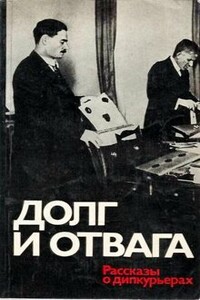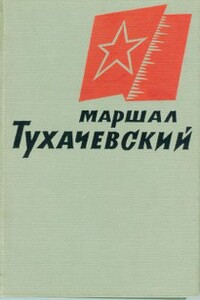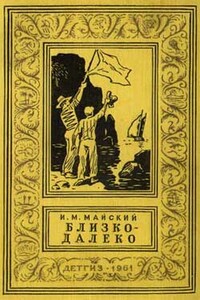Воспоминания советского посла. Книга 1 | страница 47
Перед нами к югу, глубоко внизу, темные воды Иссык-Куля, а там дальше — синевато-розовые, горящие в утренних лучах цепи, и цепи, и цепи гордых, могучих снеговых гор, постепенно переходящих в исполинско-величавые массивы Тянь-Шаня.
И тишина! Какая тишина! Девственная, предвечная тишина, которая еще не знает шума, создаваемого человеком. Тишина, которая сама звучит и покоряет душу.
В последующей жизни мне не раз приходилось бывать на вершинах гор: в Альпах и на Кавказе, в Японии и на Алтае, в Монголии и Скандинавии. На этих вершинах тоже была тишина. Но никогда больше я не переживал ни той глубокой полноты, ни того несравненного звучания тишины, которые я испытал на вершинах Александровского хребта. Тишина ли тут была другая, я ли сам был другой, не знаю…
Домой из Верного мы возвращались на лошадях. Все две тысячи верст мы сделали «на перекладных», т. е. меняя коней и повозку на каждой почтовой станции. Отец сильно торопился, и потому мы ехали днем и ночью. Я был до такой степени переполнен впечатлениями минувших двух месяцев, что почти ничего уже больше не мог воспринимать. В дороге я очень много спал. Часто ночью бывало я вдруг проснусь на мгновение, проснусь от какого-либо особенно резкого толчка, приподымусь, открою глаза, прислушаюсь… В небе горят яркие звезды… Колокольчик под дугой равномерно звенит, разбрасывая во мраке мелодичные трели… Отец спит рядом со мной… Ямщик заливисто посвистывает на облучке… И снова я проваливаюсь в глубокую тьму: крепкий молодой сон сковывает мои веки…
На десятый день мы, наконец, добрались до Омска. Когда я переступил порог дома, мать, всплеснув руками, воскликнула:
— Ванечка, как ты изменился! Ты стал совсем другой!
Мать была права. Дело было не только в том, что я вытянулся, похудел и загорел до черноты. Важно было то, что за время путешествия я сильно вырос духовно, я стал больше понимать и глубже чувствовать, Самое же главное состояло в том, что тут я впервые близко столкнулся с народом, с крестьянской массой. Это столкновение оставило в моей душе неизгладимый след и заронило в мое сознание семена того уважения и той симпатии к народу, которые в последующие годы принесли столь богатые плоды.
В Петербурге
Осенью того же, 1893 г. вся наша семья переселилась в Петербург. Произошло это таким образом. Отец получил, как гласила в то время официальная формула, «командировку в Военно-медицинскую академию для усовершенствования в науках». Такая командировка продолжалась два года. Не было никакого смысла на столь долгий срок разбивать семью на две части. Поэтому родители мои решили ликвидировать свой омский «очаг» и всем домом переселиться в столицу. Сборы по разным причинам затянулись до глубокой осени, и когда был назначен примерный срок отъезда, оказалось, что река Тура, на которой стояла Тюмень — ближайший к Омску железнодорожный пункт, — сильно обмелела и перестала быть судоходной. Добираться до Тюмени (свыше 600 верст пути) теперь приходилось уже на лошадях. Мероприятие это было не из легких. Стоял конец сентября — время очень позднее по сибирским условиям. Лили осенние дожди, дороги превратились в непролазное болото. По ночам начинались легкие заморозки. Семья наша состояла из семи человек, причем самому младшему ее члену, брату Михаилу, едва исполнился год. Вещей и багажа с нами было немало. Собственных экипажей у нас не имелось, поэтому ехать приходилось на перекладных, как незадолго перед тем мы с отцом возвращались из Верного. Это означало, что через каждые 30-40 верст надо было в любую погоду перегружать всю семью со всеми ее чемоданами и тюками из одной повозки в другую. Перспектива была не из веселых. Но ехать было надо, и мы поехали.