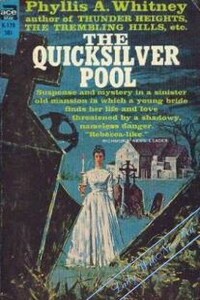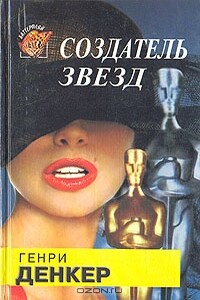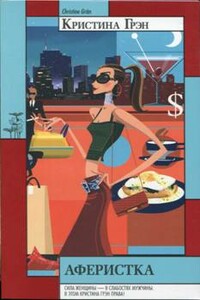Легкое пламя. Триллер для двоих | страница 43
Когда Маша отдыхала спустя какое-то время летом на той же даче в Мельничном ручье, то всегда натыкалась на эти книги, которые достались ей от Виктории. Врубель, Серов, Репин, все то, что проходили тогда на кафедре истории зарубежных литератур на искусствоведческом факультете. Маша также всегда натыкалась на дневники ее матери, красивой тонкой армянки, также завещанные ей, Маше. В них мать Виктории писала о поэзии, своей жизни, институте благородных девиц. В них она много рисовала акварелью.
Портреты были какие-то на редкость тонкие, хрупкие. Когда Маша листала страницы, ей приходила на память семейное предание, о том, как отец Виктории спас ее мать от смерти, когда женился на ней во время блокады, и что во время той же блокады, он собирал антиквариат, каким-то жутким образом ставшим причиной, может быть косвенной, смерти его дочери. Под конец жизни Виктория часто приглашала незнакомых людей в гости и открывала тот самый потаенный ящик комода красного дерева, где, как сказал юноша-убийца, давно ничего не было.
Кирилл отнесся к событиям неожиданно и по-мужски. Благо, событий за последний год было – немало. К чести его следует сказать, что он был первым, кто осознал, что Виктория не погибла сама по себе, Танечкин сын был украден – неспроста, и что каждый в его семье должен как-то нести за это все – ответственность. Поскольку представителем его семьи был пока все-таки только он сам, Кирилл и понес эту ответственность с должным терпением и достоинством. Его внимание к похоронам, дотошный подбор бумаг, поиски пропавшего мальчика, искренний ужас от всего того, что произошло, были настолько им прочувствованы, что Машу это действительно удивило и впервые по-настоящему – тронуло. После убийства Виктории он подписал необходимые документы и в короткий срок уладил все формальности в суде. Серьезности, с которой он выступал в присутственных местах на разных этапах оформления дела, сопутствовало чувство семейного долга и даже чести, которые, как казалось теперь Маше, поколениями взращиваются семейными устоями в ожидании, что когда-нибудь эти впотьмах брошенные сто лет назад семена-посевы все-таки в какой-то важный момент дадут нежданные, но удивительные всходы. Через полгода Кирилл стал писателем. За короткий срок изучил, обсудил, а заодно и обругал все то, что с ним происходило за все годы жизни, почувствовав, наконец, облегчение. Маша хорошо понимала, что ненависть, изредка проявляющая теперь в его желании говорить правду по разным поводам, была вовсе не талантом, злостью или честностью, но была продиктована и заложена собственной семьей. Как будто любви ему не хватило с пеленок, или она была отнята у него так страшно и жестоко, почти полностью. Отданная ему, с таким избытком и сполна, да еще и так рьяно, по негласному закону жизни, она вдруг исчезла, испарилась, забыла о нем, перекочевала к кому-то другому, да еще и – навсегда. Могла ли Маша оставить его, зная, как ему тяжело и чего он, собственно, лишился?