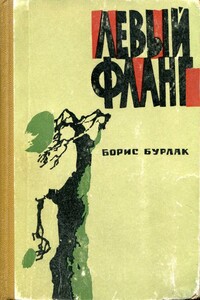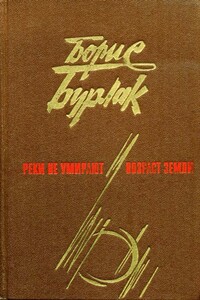Жгучие зарницы | страница 17
Зимой двадцать первого года у матери появилось еще одно занятие — ей поручили ликвидировать неграмотность. Как ни пыталась доказывать в сельсовете, что у самой плоховато с грамотой, что и пишет она с ошибками, ничего не помогло. Пришлось ей с ее церковноприходским университетом учить других. Кажется, никогда она не была такой деятельной, энергичной, подвижной, как в ту пору. Вставала затемно, помогала бабушке по хозяйству, потом до обеда все что-то шила для крестьянок, наделенных природным чувством благодарности, — не то что Мальневы, — и под вечер уходила к своим великовозрастным ученикам в школу, где пропадала до ночи, если кроме ликбеза надо было еще участвовать в репетициях драмкружка. И как ни уставала, но выглядела она куда свежее, чем в городе…
Засуха в двадцать первом году началась с самой ранней весны. Южноуральские горы, едва зазеленев по распадкам и лощинкам, уже к середине мая по-осеннему зажелтели. Робкие всходы на полях, немилосердно опаленные знойным солнцем, беспомощно сникли и увяли. Кругом виднелись пустые, черные делянки, словно только что вспаханные под сев. И к июню даже земля, иссиня-маслянистая, благодатная уральская земля, выгорела вовсе и стала похожа на легчайшую соломенную золу, с утра до вечера раздуваемую окрест жаркими азиатскими ветрами. Накатанные большаки растрескались так, что лошади спотыкались на ходу, падали на передние ноги.
Крестьяне горько жалели о последних пудах бесценной пшенички, выброшенной на суховейный ветер: все-таки семян хватило бы на прокорм до зимы. Да кто же знал, что надвигалась такая страшная беда. Поначалу винили по всем попа: это он своим богоотступничеством вызвал гнев всевышнего. Но когда и с далеких берегов матушки-Волги долетели слухи о беде, попа оставили в покое.
Каждое воскресенье тянулся крестный ход на ближние поля. Люди несли икону божьей матери, хоругви — вслед за дряхлым батюшкой, преемником молодого Сорочкина; люди сами изнывали от жары, кашляли от мучнистой пыли, чертыхались про себя, однако продолжали нестройно, вразнобой подпевать зычному дьякону: «Дажь, Боже, земле жаждущей спасе…» Мы, ребятишки, босиком семенили по обочинам проселка, натыкаясь на сухие колючки перекати-поля, но ни за что не хотели отстать от такого диковинного молебна.
А в небе, высоком, сияющем небе, ни облачка, ни ворсинки. Небо тоже заметно вылиняло и казалось необитаемым, как и эта дотла выгоревшая степь, в которой пересохли все ручьи, заилились, иссякли родники в глинистых овражках. Только раз после очередного молебна появилась над нашей Дубовкой лиловая тучка. Стало накрапывать. Все ликовали. Но вскоре тучка рассеялась, растаяла в небесном пекле, — дождь не прибил даже пыль на улице. И новая волна уныния захлестнула каждый крестьянский дом.