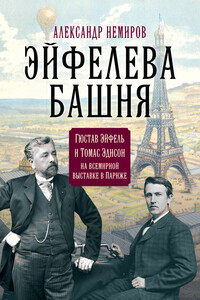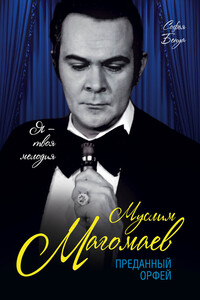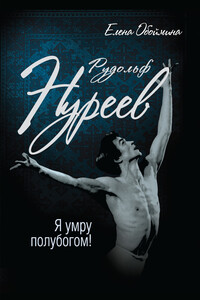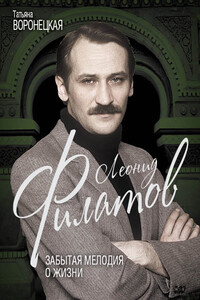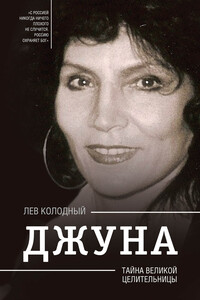Илья Глазунов. Любовь и ненависть | страница 26
«Я любил неугомонного драчуна и не разделял общего возмущения его проделками», – спустя много лет после, казалось бы, пустякового происшествия не забывает помянуть эту божью тварь на тесной площади отведенного ему журнального пространства автор.
Если под тем, кто подтолкнул новорожденного на дорогу бытия, тонувшую в поле ромашек, явно угадывается творец всего сущего, то в образе неугомонного драчуна с красным пламенеющим гребешком над головой, в моем понимании, предстает сам автор. Да, перевоплотившийся в неутомимое, жизнерадостное существо, пробуждающее от спячки всех живущих, и поныне, как тогда в детстве, «не разделяющий по сей день общего возмущения» по разным явлениям современной жизни.
У того дачного возмутителя спокойствия была еще одна социальная роль: беспрерывным, надсадным и веселым пением он «как будто осуждал ленивых людей». Спустя много лет на одной из картин Глазунова появится крупный с красным гребнем петух, трижды прокричавший перед нашей общей бедой в Иерусалиме. Его прообразом послужил юный белый петушок, некогда будивший питерских дачников.
Среди пишущих художник не первый, кто отождествлял себя с этой рано просыпающейся птицей. Сергей Есенин оставил нам признание, что и он:
Что еще мы узнаем из самого раннего первоисточника о детстве автора, его жизни сроком в одиннадцать лет? Очень мало. Ни дня рождения, ни родителей не называет, спешит вспомнить образы, которые могут с годами забыться. Вот они – осенние просторные луга; стрекозы, дрожащие над омутами речушек; стреноженные лошади в вечернем тумане у реки; смородина и малина запущенных садов. И родной город, откуда каждой весной уезжал на дачу и каждую осень возвращался, встречая на улицах лошадей, но не таких, какие возникали на водопое.
На питерских тонконогих лошадках успели и его покатать по Невскому проспекту, мимо Зимнего дворца, по маршруту, который вел на Петроградскую сторону, где каждый дом имел неповторимое лицо. Не здесь ли, на этой стороне, родился, жила его семья? И на эти вопросы автор не отвечает, по-видимому, опасаясь, что его упрекнут в нескромности: ведь действительно в тридцать пять лет как-то неудобно задерживаться на деталях, которые интересуют людей в биографиях классиков.
Короткая глава о довоенном детстве заканчивается, едва начавшись, воспоминанием о первом посещении музея, не какого-то художественного, знаменитого. Илью повели в домик Петра Первого, деревянный, упрятанный в каменный защитный футляр потомками, в непохожее на царский дворец жилище. В его описании нет никаких символов, перевоплощений, параллелей с собственной жизнью, только выражается искренняя любовь к «энергичному» (как запавший в памяти белый петушок) «русскому человеку в римских латах», царю, который так много сделал, чтобы Российская империя стала великой.