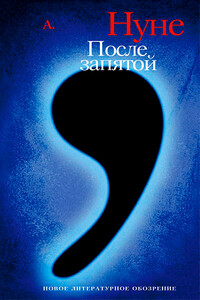Краткая книга прощаний | страница 36
Григорий Пахомов присел на камень, счистил грязь с немецкой лопаты и сказал напарнику со странной тоской:
— Нам бы, Филокей, эти книги в детство.
Филокей ел хлеб с сыром домашнего производства и говорил Пахомову:
— Первая моя скончалась в двадцать восьмом. Три года ей было. Вторую немцы в войну угнали. В сорок четвертом сын родился, но умер в самый раз на мой день рождения в пятьдесят пятом. Десять лет прожил, значит.
Пахом постучал сапог о сапог. Поежился.
— Калитку тебе подправить надо, — сказал он и кивнул на Филокеев забор, — тоже, небось, давно стоит.
Филокей прожевал кусок, достал табак и газетку.
— А я не верю в это, — помолчав, добавил Григорий, — ну в смерть, что ли.
— Почему, — сказал Филокей, — умирают же, сам, небось, видел.
— Ну умирают, так это ж не смерть, — пояснил Пахомов, — смерть — это когда не умирают.
— Фантазируешь, — заметил Филокей, — умирают в смерть, не умирают — в жизнь.
— Это когда как, — ответил Григорий. — В жизнь умирают сами, а в смерть по обстоятельствам. Не путай.
Замолчали. Закурили.
— И все ж, — сказал Филокей, — жизнь и смерть — вещи разные.
— Разные, — согласился Григорий, — но не у нас. У нас не разные.
— Ну вот умру я завтра, — примерился Филокей, — кто же жить вместо меня будет? Не ты ль?
— Как ребенок, — сказал Григорий и снова постучал сапог о сапог. — Ты бы лучше подумал, чем ты умирать собрался, — жизнью или, к примеру, смертью. Вот вопрос.
Филокей затянулся поглубже, прищурился, стряхнул пепел.
— Ты, Гриша, не умствуй, — определился он окончательно, — ты ведь младше меня на семь лет.
Шармань моя, шармань. Как говорил Коля Елисеев, плоть от плети моей.
Имелись мы с ней в первый раз на приставной лесенке в огромной захламленной веранде. Лучики света падали на ее замечательную попку. Та лохматилась и серебрилась.
— Ой, Володенька, — говорила она, — ой, мальчик мой.
На веранде пахло теплой пылью, старыми газетами, мышиной возней.
Отец ее, Николай Алексеевич, генерал и потомственный алкоголик, мужественно спал. Тикали часы.
За кофе говорили о Париже, Марселе Прусте и празднике, который всегда с тобой.
Потом все повторялось, но теперь уже в креслах, и чехлы на них ерзали.
Через месяц мы почему-то расстались. Хотя причин уже не упомню.
В общем — грустно.
Колька Елисеев в таких случаях обычно напивается в драбадан и, сидя в малиннике у окна, плачет и поет о ямщике.
Ванька Гречка со товарищи пошел стрелять из самопала. Стреляли в разное, но результат радовал.