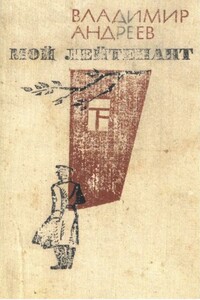До последнего мига | страница 27
— Ты это… Ты ведь на фронт, командир, едешь, — Парфёнов помотал в воздухе рукою.
— Я в первую очередь к матери отправляюсь, а на фронт — во вторую.
— Вс-сё равно, в итоге будет фронт, поэтому вот тебе, парень, — Парфёнов проворно и ловко, почти не нагибаясь, выдвинул нижний ящик верстака, оказавшийся на удивление чистым, будто это ящик не верстака был, а какого-нибудь бельевого комода или гардероба, достал оттуда вафельное полотенце с лиловым треугольником печати, свидетельствовавшей о том, что полотенце было казённым, — вот тебе утирка и десять минут времени, чтоб постоять под душем. Вымойся перед фронтом. Больше ничего не могу предложить. Извини, — Парфёнов развёл руки в стороны.
Что такое тёплая вода, душ, баня в холодном и голодном, насквозь простреливаемом, просквоженном Ленинграде? Есть ли подходящие слова, чтобы в полную меру объяснить всё это, описать? И выдастся ли ещё Каретникову такое? Предложение дяди Шуры Парфёнова — королевское. Не воспользоваться им — то, может быть, и умирать придётся где-нибудь в бою немытым, холодным, чужим самому себе.
— Давай раздевайся, а я по делам схожу — главврач чего-то просил заглянуть. Минут через пятнадцать вернусь. Душ вон где.
Парфёнов шагнул от верстака в сторону, к крохотной; деревянной загородке, проём которой был затянут старым и, как разглядел Каретников в слабом свете коптилки, совершенно выцветшим брезентом. Откинув брезент, Парфёнов сунул руку в тёмное нутро загородки, крутанул вентиль, и откуда-то сверху посыпалась меленькая тёплая водица. То, что она была тёплой, Каретников ощутил даже на расстоянии, это тепло в тепле, но только материя тепла, ткань была совершенно иной, на движение мелких водяных пылинок с готовностью отозвалась каждая каретниковская клеточка, каждая жилка, каждый, даже самый тонюсенький, самый неприметный нервик, отонок, каждая порина на коже. Каретников хотел было помотать головой отрицательно, отказаться от предложения — ведь надо было двигаться к матери, но не смог, шея плечи его сделались вялыми, чужими, непослушными, и Каретников против своей воли поднял руку и сделал согласное движение.
Парфёнов заметил, проговорил удовлетворённо:
— Вот и хорошо.
Когда Каретников, отодвинув в сторону полог, шагнул в закуток, то почувствовал, что возраст его — намного больший, чем есть на самом деле, к тому, что имеется, надо прибавить по меньшей мере ещё лет пятнадцать, а то и двадцать, каждая косточка, каждая мышца набухли усталостью, вобрали в себя груз времени, которое Каретников не успел пока прожить, а оказывается — вона, уже прожил. Шрам на боку был гладким, свежим, не видя его, Каретников чувствовал, какой он и как пугающе тонка, непрочна розовато-сизая кожица, обтянувшая рану. А как стал под тёплую морось, так сразу мальчишкой себя почувствовал — ну будто половину своих лет сбросил, переместился назад, в школярское прошлое, даже ещё дальше — в безмятежное, полное нежных ангельских красок детство.