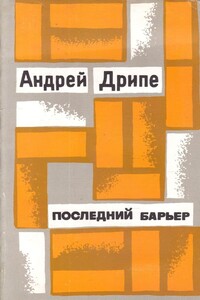Колесом дорога | страница 31
Неизвестно кого видел дед, а вот сам он, Тимох Махахей, посмотрел все же на то чудище. Корчевщики в выходной приехали на Бобрик порыбачить. И, сколько шашек, толу бросили в эту яму, трудно сказать, но шандарахнуло так, что Махахей полуголый из дома во двор выбежал. Корчевщики уже подтягивали к берегу здоровенного сома, пудов на десять. Положили на телегу, а он не помещается, хвост до земли достает.
Вот что таят в себе князьборские старицы. Живут они своей, потайной жизнью, может, и хаты там, на дне, поставлены. Живут озера, речки и старицы, как люди, дышат, детей, наверное, как люди, производят на свет, может, те же самые бобры и есть их дети. Жутко и морозно глазам становится, когда смотришь на бобров и бобренят. Их тут великое множество, больше, чем мужиков в Князьборе, и как они работают. Только-только оторвался от реки теплый предутренний туман — уже в хлопотах. Как из преисподней, выплывают из хаток и черными челнами, не различишь на темной, еще ночной воде, ускальзывают по течению, ладят плотины, валят деревья. Не успело дерево воды коснуться, а они уже на нем со всех сторон и как пилами его раскряжевывают, пильщики речные. А обозлятся или зачуют кого, будто цепом, молотнет по воде старый седой бобер. И тишина, и нет никого. Только вода, оплавленные уже солнцем берега, лозы, дубы, ясени, их отражение плещется на притихшей воде. И, кажется, дубы, ясени, ольха и (береза растут не только на берегу, но и со дна стариц и озер, а сквозь их ветви и стволы горящим жаром пробиваются кувшинки, белой прохладой остужают день водяные лилии. Радуют глаз, a руки не даются. Лилию эту, кувшинку в руки ты молодой взял, а глянул на нее, она уже и состарилась. И все это хотением своим, привычкой до всего, до красоты и безобразия рукой дотронуться. А Князьбор надо принимать, видеть его душой. Не зря князьборские мужики и бабы сплели сказку о том, какое знамение им вышло перед тем, как срубить хаты на берегу Бобрика.
Шел по Припяти самоходом из славного древнего Турова каменный крест. Плыл себе по течению, покачивался в волнах, тихо-мирно доплыл до устья Бобрика, развернулся, вошел в него и опять же самоходом, но уже против течения начал подниматься вверх, у песчаного крутого берега, возле освеченной березами земляничной поляны остановился, причалил и пропал. Там, где он пропал, и срубили себе князьборцы избы. Махахей утверждают, будто они были первоосновщиками. Барздыки тоже доказывают, что первыми пришли сюда. А Ровды говорят, будто все совсем наоборот было. Будто они сами были тем крестом. Приплыли сюда, и только летом объявились всякие там Махахей и Барздыки, горе лыковое. Спорить с Ровдами трудно. Они Демьяны. А дед Демьян еще и сегодня, минувшим летом, с Демьянятами на покос свой в бывшую дубраву поехал сгребать сено. Убрали сено, сметали в стог, нагрузили воз, хватились, а ужать нечем, забыл дома, в сенях оставил Демьян веревку. И так ему горько стало, что скоком взлетел в минуту какую на стог, завопил «Степане, веревку!», и племянник мигом в зубах ту веревку принес. А от Демьянова покоса до села ни много ни мало — три километра. Вот какая глотка у этих Ровд-Демьянов. Кому под силу перекричать их. Но кричали в деревне все же больше Барздыки да бабы Махахеев, Отстаивали первенство, главенство свое. Надо было только Махахеевой курице Барздыков огород перепороть, как начиналась война. Дурели бабы от тишины, красоты, покоя, от просторов, вод, дубрав, не брал их мир и в раю. А рай земной, несомненно, если мог где быть, так только в Князьборе.