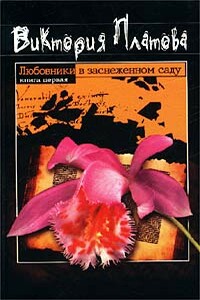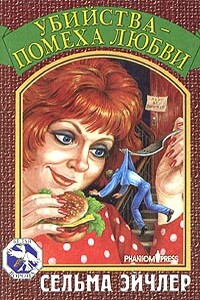Такси для ангела | страница 35
— Да, это касается моих последних переговоров. Завтра в четыре из Мюнхена прилетает переводчик. Некто герр Райнер‑Вернер Рабенбауэр, я уже встречалась с ним в Германии. Не самый приятный человек, мягко говоря. Но довольно сносно лопочет по‑русски.
— Не самый приятный?
— Единственное достоинство этого господина заключается в том, что ему не нужно объяснять на пальцах русскую ненормативную лексику.
Аглая скорчила гримасу, происхождение которой мне было понятно: приезжал всего лишь Райнер‑Вернер, а не Кристоф‑Франсуа, например. Или Жан‑Пьер. Или Жак‑Анри. Франция, родина «Украденных поцелуев», была по‑прежнему равнодушна к творчеству Аглаи.
— Займитесь этим немчиком, Алиса.
— Сегодня же напишу плакат для встречи в аэропорту.
…Я действительно приехала в Шереметьево с плакатом и с очередной пачкой писем, которую еще с утра вытащила из абонентского ящика (письма я намеревалась почитать по дороге, чтобы ожидание герра Райнера‑Вернера Рабенбауэра было не таким тоскливым). Эта пачка, вернее, одно из писем в пачке так испортили мне настроение, что я едва не пропустила объявление о прибытии самолета «Люфтганзы», следующего рейсом из Мюнхена.
Письмо было засунуто в блеклый конверт без обнадеживающего обратного адреса. Я ненавидела отсутствие обратных адресов: как правило, за ними скрывались сладострастные пасквилянты, тихопомешанные защитники литературы Большого Стиля или секс‑хулиганы, готовые залить спермой из своих худосочных брандспойтов любое, даже едва тлеющее, книжное откровение. Подобные письма я никогда не показывала Аглае и, как правило, выбрасывала в корзину прямо на почте. За исключением особо выдающихся или особо циничных образцов. Они и составили небольшую подборку, которая хранилась в нижнем ящике моего рабочего стола.
Непонятно зачем я собирала их. Все эти заскорузлые листки. Все эти с мясом вырванные и испохабленные страницы из Аглаиных книг с приписками: «Вот, спустил давеча на твою героиню, полюбуйся. С женой так не получается последние пять лет…» Или — «Вы не просто графоманка, вы графоманьячка!». Или — «Я, потомок выдающегося писателя Козьмы Пруткова, подаю на вас в суд за осквернение великого и могучего русского языка!».
Предчувствуя нечто подобное, я вскрыла конверт. Из него выпал листок с одной‑единственной, набранной крупным шрифтом фразой:
«БОЙСЯ ЦВЕТОВ, СУКА!»