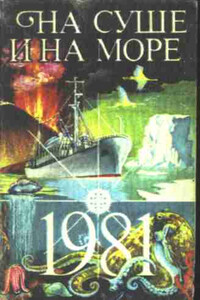Свое время | страница 80
— А знаешь, как там у них, на задворках, называют Мир-коммуну?
— Как? — спросил не я, кто-то другой.
— Плебс-квартал!
И мы заржали, все, я ржал не тише и не громче других, я всегда был такой, как все. До сих пор не понимаю, что меня дернуло за язык на следующий день, за обедом, эдак ненавязчиво и, как мне показалось, красиво и к месту, ввернуть это словечко: «плебс-квартал».
Слышали все. И Гром.
Он даже не пытался за меня заступиться. Он сказал потом: ты сам понимаешь. Мне жаль. Ему правда было жаль, а мне жаль до сих пор, что мы больше не увиделись и не встретимся, наверное, уже никогда. Он был замечательный, Гром. Без него я был бы сейчас жалким коммуналом, медленно-медленно жрущим и трахающимся существом, увешанным цацками. И даже не понимал бы, что в моей жизни не так.
А тогда — я понимал! Я все осознавал, и с меня словно заживо содрали кожу вместе с моим временем, рабочим временем спецохранца. И вытолкали с содранной кожей туда, к ним, в мир-коммуну. В рутину их невыносимого коммунального времени.
И я шатался по улицам Крамербурга, выписывая сложные и бессмысленные траектории по тем самым лучам и окружностям, на которые когда-то любовался со стены, заворачивая в дом-столы, если хотел жрать, и в дом-сны, когда совсем выбивался из сил. Каждый час, каждая минута тянулись бесконечно, пустопорожние, неубиваемые, общие для всех вокруг, точно так же, как шмотки, жилье и жратва. И я был такой, как все — тупое коммунальное стадо, они жили так всегда и, что самое отвратное, ловили кайф от такой жизни. Особенно противно было смотреть на недоростков, вчерашних дом-садовцев, только-только из-за колючки: эти прям-таки визжали от восторга, думая, что вот это вот и есть свобода.
Первые несколько дней на меня даже не наезжали. Понятия не имею почему: возможно, у меня было что-то такое в глазах, мрачное предупреждение не лезть, пожизненный отпечаток Базы спецохраны, моего настоящего и потерянного времени. Но в конце концов идиоты нашлись. Из тех, дом-садовских, раскрашенных и обвешанных цацками, ошалевших от их так называемой свободы.
Я помню.
Они окружают, сходятся со всех сторон, я понимаю умом, насколько медленно, ржачно медленно они двигаются — но я и сам такой же, я не успеваю, не могу уйти. Не чувствую ни страха, ни даже ненависти и отвращения к ним — только стыд, невыносимо-жгучий стыд за собственное бессилие. Делаю обманное движение, ухожу в сторону, успев чуть раньше, чем они бросаются на меня всем скопом, и промахиваются, мешая друг другу, и у меня почти получается ускользнуть. Но один из них быстрее других, он вцепляется сзади в одежду, повисает на шее, пережимая горло и артерию, мне нужно время — время! — чтобы его стряхнуть, и поспевают остальные, наваливаются кучей, весело вопя и улюлюкая, и начинают бить. Это я тоже понимаю умом. Ни боли, ни чего-то еще я так и не чувствую — ничего, кроме стыда за то, что я такой же, как они.