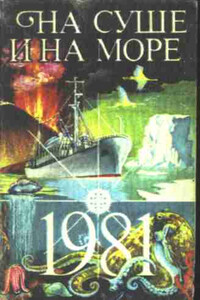Свое время | страница 78
А что я любил, так это лазать на стену. Она, была, наверное, в четыре моих роста, а может быть и в пять, я никогда не представлял себе четко ее высоты, хотя знал каждую трещину, куда можно было воткнуть линейку, каждую щербинку, пригодную, чтобы упереться носком кроссовка. Конечно, долезал только до колючки, дальше не пробовал, идиотом я не был и тогда — просто долезал и смотрел. Сквозь петли и извивы металла, — они слепили на солнце, так что приходилось все время щуриться и плечом вытирать слезы. Но я не терял равновесия, я умел закрепиться так, что меня не сорвало бы даже нападение хищных птиц. Птицы, кстати, летали совсем близко. И мухи с осами. А я смотрел сквозь колючку на Крамербург, на клеточки крыш, лучи улиц, бескрайний пустырь по Окружности и нечто зыбкое на горизонте, пропадающее в плохую погоду, — и все это было охренительно красиво.
Я думал тогда, что свобода — там. Что она вообще отвечает на вопрос «где?».
Потом они, конечно, меня выследили. Плевое дело — выследить кого-то, живущего по коммунальному времени, если ты сам хоть немного ускорен. Кто? Да садовые бабы, кто ж еще, мы никогда не знали их имен и не могли отличить одну от другой, настолько быстро они шныряли вокруг. Теперь-то я знаю: персонал дом-садов энергофинансируется по остаточному принципу, на самом деле их рабочее время всего лишь процентов на десять отличается от коммунального, а с ликвидаторским и вовсе смешно сравнивать. Короче, выследили. Но не смогли снять со стены.
И тогда в моей жизни появился Гром.
Я висел там до вечера. Давно уже не чувствуя ни рук, ни ног, ни любимой щербатой выемки за метр от края, ни линейки, вросшей в пальцы. Я висел, потому что они не имели права требовать, чтоб я слез, и я готов был это доказать, и провисеть всю ночь, и еще один день, и свалиться только трупом с отпечатком свободы в мертвых глазах; я был еще тот выдумщик, мальчишка. На самом деле глаза давно полуослепли от рези и слёз. Зато оставалось совсем немного коммунального времени до того, чтоб узнать, как я ошибался насчет свободы.
Я не видел, как он подошел, Гром; думаю, садовые бабы тоже не видели. Он замедлился чуть ли не до коммунального синхрона, чтобы я смог его заметить, и все равно серый силуэт плыл и колебался по краям — мне казалось, это из-за слёз, и хотелось протереть глаза, но склонить голову к плечу и отвести локоть не получалось, так задубели руки и шея. Зыбкое серое пятно внизу и негромкий, слишком высокий для мужчины голос, который скороговоркой попросил слезть. Понятия не имею, почему я тогда — еще ничего не зная о нем — согласился.