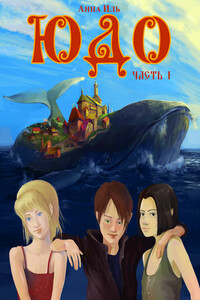Туманность Андромеды | страница 49
Под влиянием нашего общения своеобразно изменились и уроки Ирид детям.
Я заметил, что ее совершенствование в области примитивного мышления и простейшей логики, бытующей в моем мире, придало ей способность гораздо лучше передавать свои мысли детям и лучше их понимать: она и сама уподобилась ребенку, стала по-детски говорить и даже вести себя.
Для меня радостно было наблюдать, как она душой сближалась с детьми и как учительница с учениками образуют единую общность, что бывает совсем не часто.
Вместе с тем именно занятия с детьми дали Ирид первый повод для горьких переживаний. Она стала осознавать, что у нее пропадает интерес и даже физические силы, чтобы дальше развивать детей в духовном направлении и обучать их тем вещам, которых требовали от них время и окружающее общество.
Даже ее отношения с отцом, прежде исполненные взаимного понимания, стали несколько омрачаться. Ее потребность всем с ним делиться стала ослабевать. И напротив, в ней росла склонность к устному разговору, то есть к тому, что старец считал чем-то донельзя банальным, а попросту – пустой болтовней.
Больше того, она пыталась (возможно, это было следствием ее нечистой совести) скрыть от отца свое соскальзывание вниз, к моему уровню, и эта атавистическая попытка лицемерия весьма сильно его ранила.
Но самым тревожным было то, что Ирид не только отказалась от своей свободы и стала ощущать себя как часть меня, в такой же зависимости от меня, как я зависел от нее до нашего соединения, хуже того – она даже перестала ценить свою личную свободу, как нечто неотъемлемое от человеческого достоинства.
Она даже не остановилась перед утверждением, что варварское состояние древних времен, когда женщина могла раствориться в любимом мужчине, образовав с ним единство тела и души, – что это состояние было наивысшим и благороднейшим.
Ирид сделалась варваркой!
Когда ко мне пришло понимание неизбежности конфликта, которому суждено было разразиться, было уже поздно. Да и не мог я своими силами остановить естественный процесс.
Я попытался, как в первое время моего знакомства с Ирид, вновь оживить в памяти ее тогдашние мысли и речи. Я настаивал, чтобы она более интенсивно занялась со мною языком Дрома. Мне доставляло удовольствие упражняться в письменном языке ее высокого мира.
Этот письменный язык представлял собой некий синтез буквенного и знакового языка. Материальные вещи обозначались с помощью буквенных слов, абстрактные же – знаками, причем так, что знаки, соответствующие отдельным элементам, духовным и содержательным образом группируются в знаки более высокого порядка, которые и обозначают соответствующие понятия.