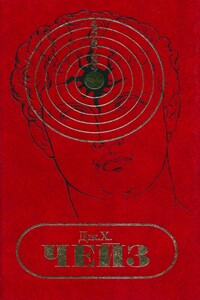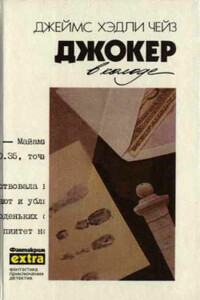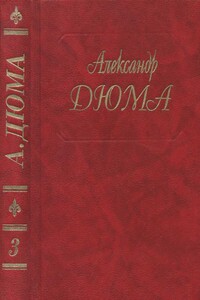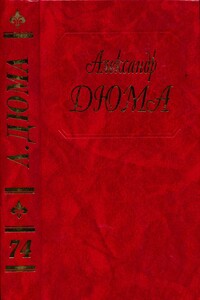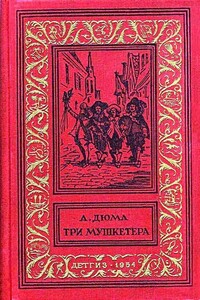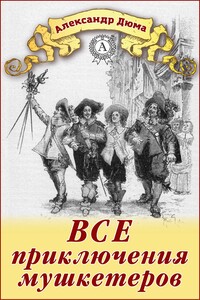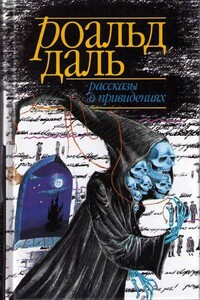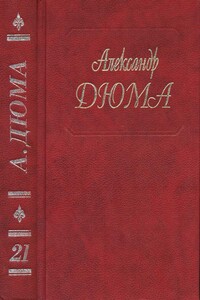Сорок пять | страница 24
При появлении осужденного толпа, как по волшебству, разместилась на площади ярусами: мужчины, женщины, дети располагались друг перед другом. Всякий раз как над этим волнующимся морем возникала новая голова, ее тотчас же отмечало бдительное око Сальседа: в одну секунду он мог заметить столько, сколько другие обозрели бы лишь за час. Время, ставшее вдруг столь драгоценным, в десять, даже во сто раз обострило его возбужденное сознание.
Бросив на новое, незнакомое лицо молниеносный взгляд, Сальсед снова мрачнел и переносил все свое внимание куда-нибудь в другое место.
Однако палач уже завладел им и теперь привязывал к эшафоту, в самом центре его, охватив веревкой поперек туловища.
По знаку, поданному лейтенантом Таншоном, распоряжавшимся приведением приговора в исполнение, два лучника, пробиваясь через толпу, уже направились за лошадьми.
При других обстоятельствах, направляйся они по другому делу, лучники и шагу не смогли бы ступить в такой толчее. Но толпа знала, зачем идут лучники, она расступилась, давая дорогу, как в переполненном театре всегда освобождают место для актеров, исполняющих главные роли.
В ту же минуту у дверей королевской ложи послышался какой-то шум, и служитель, приподняв портьеру, доложил их величествам, что председатель парламента Бриссон и четверо советников, из которых один был докладчиком по делу Сальседа, просят разрешения переговорить с королем по поводу казни.
— Отлично, — сказал король.
Обернувшись к Екатерине, он прибавил:
— Ну вот, матушка, теперь вы будете довольны.
В знак одобрения Екатерина слегка кивнула головой.
— Сир, прошу вас об одной милости, — обратился к королю Жуаез.
— Говори, Жуаез, — ответил король, — и если ты просишь милости не для осужденного…
— Будьте покойны, ваше величество.
— Я слушаю.
— Сир, есть нечто такое, чего не переносят глаза моего брата, а в особенности мои: это красные и черные одеяния. Пусть ваше величество по доброте своей разрешит нам удалиться.
— Как?! Неужели вас столь мало волнуют мои дела, господин де Жуаез, что вы хотите уйти от меня в такой момент? — вскричал Генрих.
— Не извольте так думать, сир: все, что касается вашего величества, меня глубоко трогает. Но натура моя так жалка — слабая женщина и та сильнее меня. Как увижу казнь, так потом целую неделю болен. А ведь теперь, когда мой брат, не знаю уж почему, перестал смеяться, при дворе смеюсь я один: сами посудите, во что превратится несчастный Лувр, и без того такой унылый, если из-за меня станет еще мрачней? А потому смилуйтесь, ваше величество…