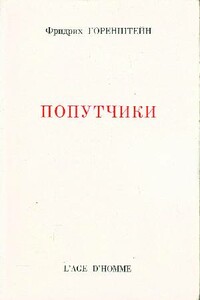Улица Красных Зорь | страница 38
Сколько просидели дети – не знают. Чайник остыл, пельмени остыли, печь уж холодная, а за окном темнота сгустилась. Начал Давидка на стуле ерзать.
– Ты чего? – сердито говорит Тоня. – Не балуй, сиди тихо, пока мама с папой не вернутся.
– Я пипи хочу, – говорит Давидка.
Повела Тоня брата в угол, где горшок стоял, пописал Давидка, и обратно его к столу привела, как мать наказывала. Давидка уж спит на ходу. Сел на стул, ноги поджал, голову свесил и посапывает. Тоня крепилась, крепилась – зажмурится и уплывает. Поплавает так в темноте, в покое, глаза откроет и опять возвращается к столу, за которым они с Давидкой сидят. Последний раз открыла – рассвет уже, солнце за окном, а мамы и папы нет. Давидка на стуле спит калачиком, на столе – те же остывшие пельмени да остывший чайник. Только разволновалась от этого Тоня, загрустила, как в дверь стучат.
«Вернулись», – обрадовалась, но спрашивает, как мать наказывала: кто это и зачем?
– Тетя Вера, – отвечают.
Отперла Тоня дверь тете Вере и говорит:
– Наших папы и мамы нет дома. Они еще с вечера ушли, и мы с Давидкой одни.
– Знаю, – отвечает тетя Вера, – бери Давидку, веди его в детский садик и сама там оставайся, так как ваших отца и мать убили.
Тут только заметила Тоня, что лицо у тети Веры красное, распухшее и мокрое. Напугалась Тоня таких слов тети Веры и такого ее лица, под кровать полезла, и Давидка вслед за сестрой туда же. Тогда тетя Вера села к столу и стала с громким плачем жадно холодные пельмени есть прямо руками. Съела тетя Вера пельмени, холодным чаем запила, вытащила детей из-под кровати и повела их в детский сад. А по поселку, по улице Красных Зорь, по тупичкам уже неслось страшное слово: амнистия. И в разных направлениях, до Свердловска ли, до Мурома ли, по поездам, по станциям, по городам и поселкам: амнистия, амнистия. Это была ворошиловская амнистия, выпустившая на свободу тысячи матерых «ворошиловских стрелков», действующих, впрочем, в основном холодным оружием.
Горе маленького ребенка или животного не сердечно, не душевно, как у взрослого, – оно в глазах. Заплачет, заскулит по мертвому, как по отнятому лакомому кусочку или разбитой игрушке, однако глаза живут самостоятельно, и они непередаваемы и непереносимы.
Пока шла Тоня по поселку и вела за руку Давидку, то более ныла, чем плакала, но когда пришли в детский садик, посадили Тоню на стул и подошел к ней седой дядя в очках с иголочкой, то Тоня закричала совсем громко.