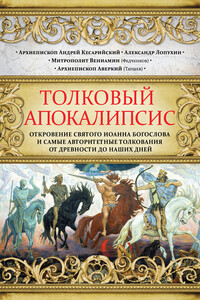Божьи люди. Мои духовные встречи. | страница 6
Дух и форма записок митрополита Вениамина во многом определяется той особой, свойственной “старым людям” (людям старой России, представителям образованного класса) манерой повествования, которая вырабатывалась благодаря многолетней привычке поверять свои мысли, чувства и впечатления дневнику, размышлять с карандашом в руках. Эта манера создает особый доверительный, почти исповедальный тон, ощущение душевной близости с автором записок.
Конечно, первая и главная задача, которую ставит перед собой автор, — сохранить, достойно запечатлеть образ “живого святого”. Это его долг перед Богом и людьми. И поэтому здесь может оказаться бесценной любая деталь, любой, казалось бы, мелкий штрих, подмеченный во время непосредственного общения. Автор прекрасно осознает, о ком он пишет, и пишет он так искренно, правдиво и непредвзято, что ощущение святости собеседников передается и читателю.
Книга “Отец схиигумен Герман”, более всего напоминающая написанное по устоявшимся канонам житие, предваряется, как уже отмечалось, небольшим повествованием “Зосимова пустынь”, известным, может быть, читателю по прежним публикациям. Схиигумен Герман (Гамзин или Гомзин; в документах встречаются оба варианта написания его фамилии) — ученик гефсиманских старцев иеромонаха Тихона (†1873) и иеромонаха Александра (†1878), Вышенско- го затворника святителя Феофана (†1894), современник и сподвижник старцев Исидора (†1908) и Варнавы (†1906), наставник и сотаинник знаменитого духовника о. Алексия Зосимовского (†1923) — был, безусловно, выдающейся личностью, сыгравшей большую роль в истории русского пастырства конца XIX — начала XX века. Достаточно вспомнить лишь тот факт, что под его управлением (а во многом и благодаря его личным трудам и подвигам) небольшой, совсем недавно возрожденный из небытия монастырь, находившийся на границе Московской и Владимирской губерний, — Зосимова Смоленская пустынь, — превратился в духовный оазис, унаследовавший лучшие традиции старчества и духовничества, заложенные в прославленной Оптиной пустыни и приумноженные в скитах Троице–Сергиевой Лавры. Личности двух новых подвижников — старцев Германа и Алексия — привлекали в Зосимову тысячи богомольцев со всей России. Со своими горестями и недоумениями шли туда архиереи, монахи и священники, ученые богословы и юные семинаристы, приезжали “поговеть” великая княгиня Елизавета Феодоровна с сестрами основанной ею Марфо–Мариинской обители, особы императорской фамилии и высшие сановники государства. Представители всех сословий необъятной России: чиновники, офицеры, учащаяся молодежь, рабочие, крестьяне и торговцы — потянулись к этому духовному маяку, пылавшему в сгущающейся предгрозовой тьме. И потом, когда буря над Россией разразилась, когда первые сполохи осветили своим страшным светом темное небо, сколько людей обрело здесь утешение и надежду, сколько душ устояло благодаря Зосимовой пустыни в вере и правде церковной!