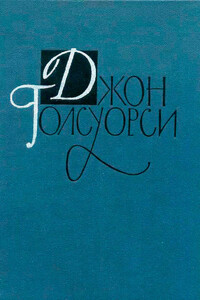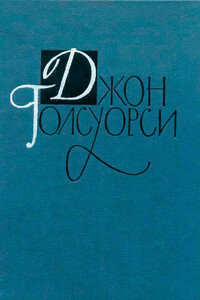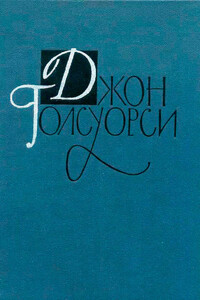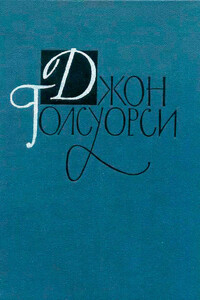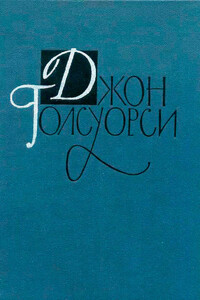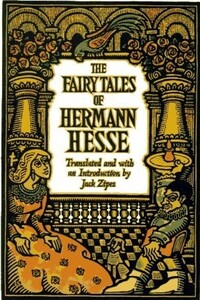Джон Голсуорси. Собрание сочинений в 16 томах. Том 11 | страница 59
Кожа его худого, узкого лица с выступающей челюстью и острым подбородком была настолько обожжена солнцем, что напоминала пергамент. На лбу пролегли морщины, глаза были карие, а в уголках губ топорщились седые усики. Затылок нависал над худой шеей и высокими, острыми плечами. Его седые волосы были коротко подстрижены. Когда я ехал сюда, то в марсельском буфете мне довелось встретить англичанина, наружностью почти его двойника и все же так на него не похожего! У моего старика незаметно было и следа настороженной и властной самоуверенности того англичанина. Он производил впечатление человека скромного и не защищенного от ударов судьбы и суровой действительности. Он определенно не был французом. Правда, глаза у него были карие, но светлого оттенка, а не темно-коричневые сладострастные глаза француза. Американец? Но разве американцы бывают столь пассивны? Немец? Кончики усов его действительно были закручены вверх, но топорщились они как-то скромно, имели вид почти жалкий, не как у тевтонцев. Словом, я в конце концов оставил всякие попытки отгадать его национальность и называл его про себя «космополитом».
Уехав в апреле из Монте-Карло, я начисто забыл об этом старике. Но в ту же пору следующего года я снова очутился в Монте-Карло и, отправившись раз на концерт, обнаружил, что сижу рядом с моим «космополитом». Оркестр исполнял «Пророка» Мейербера. Мой сосед спал, тихо похрапывая. На нем был тот же серый костюм, на коленях лежала та же соломенная шляпа (или, быть может, точно такая же). Сон не исказил его лица — усики все так же топорщились, губы были сжаты и на лице было очень доброе и приятное выражение. На правом виске у него был шрам, на шее — другой, а на левой руке надета старая перчатка с пустым мизинцем. Он проснулся, когда кончили играть марш, и покрутил усики.
Следующим номером программы была небольшая пьеска из «Le joli Gilles» [12] Пуаза, которую исполнял на скрипке синьор Корсанего. Случайно взглянув на своего соседа, я увидел слезу на его впалой щеке и другую — в уголке глаза. Он еле заметно улыбался. Затем наступил антракт, и, пока оркестр и публика отдыхали, я спросил у старика, любит ли он музыку. Он посмотрел на меня без всякого недоверия, поклонился и ответил высоким, мягким голосом:
— Конечно. Я ничего в ней не понимаю, не играю ни на одном инструменте, никогда не мог пропеть и одной ноты, но… люблю ли я музыку? А как можно ее не любить?
Он говорил по-английски правильно, но с легким акцентом — не американским и не иностранным. Я осмелился заметить, что Мейербер ему, по-видимому, не нравится. Он улыбнулся.