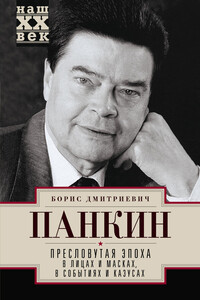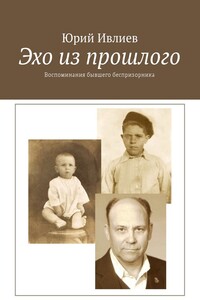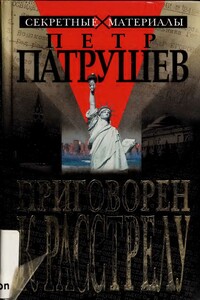Точка отсчёта | страница 11
Встречи наши, увы, уже не могли быть такими регулярными, как полгода назад. Все чаще, позвонив Константину Михайловичу в урочную минуту, я слышал в трубке смущенное покашливание: «Медицина свирепствует». Да и ненароком заглянув к нему в палату, как правило, заставал врачей и сестер — то делали укол, то брали анализ, то подключали капельницу, причудливое сооружение из стеклянных и резиновых трубок.
Если же медицинская аппаратура отдыхала, палата становилась рабочим кабинетом: загорался зеленый глаз диктофона («Заведите диктофон, в наше время никуда от него не уйти»), приходили в движение кипы старых писем («Разбираю переписку военных лет с родителями — давний мой долг»), появлялись и исчезали стопки гранок— Симонов держал корректуру очередного тома собрания сочинений.
— А «Чужую тень»,— сказал он в одну из таких мимолетных наших встреч,— не включаю. Нечего было такое писать.— Сказал и словно поставил точку в каком-то давнем, не однажды зачинавшемся диалоге.
Кажется, последнее, над чем он работал в больнице, сначала с микрофоном, потом с пером в руках над гранками, была статья о Халхин-Голе. Симонов очень тужил, что не может быть в Монголии в дни, когда отмечалось сорокалетие событий, где он впервые выступил в роли военного корреспондента. И когда через несколько дней «Литературка» была у меня в руках, опять словно морозом сковало сердце: слишком много было об ушедших, слишком много прощаний...
Возвращаясь поневоле к своей болезни, Константин Михайлович рассказал, что настаивает на применении к нему одной, «говорят, небезболезненной, но радикальной процедуры», он назвал ее выкачкой.
— Надо попробовать,— говорил он, грассируя больше, чем обычно,— надо попробовать. Иначе нет смысла. Иначе нет никакого смысла...— И можно было только гадать, что он имел в виду...
Настал такой день, когда, позвонив ему дважды и трижды и не услышав ответа, я спустился несколькими этажами ниже и обнаружил палату пустой. Медицинские сестры с непроницаемыми лицами объяснили, что Константина Михайловича увезли на особый этаж...
И еще два штриха, как два огненных следа трассирующей пули, обозначили в моей памяти последнюю прямую в жизни Константина Симонова.
Разговор с женщиной-врачом у большого лифта.
— Скажите, вы не оттуда, не с...?
— Оттуда...
— Как у Константина Михайловича дела?
— Положение сложное, крайне сложное...
— Тогда спрошу грубее: есть надежда?
Вместо ответа отрицательное, на полный поворот шеи движение головой. И несколько слов затем — в утешение, в оправдание?