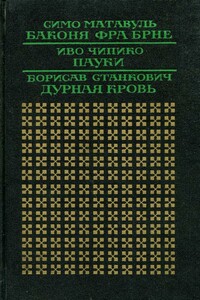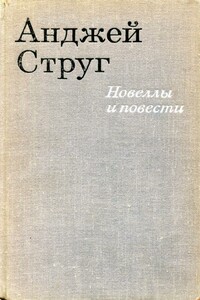Дурная кровь | страница 104
— Вот, дочка, это все тебе. Отворяй и бери… Ключ будет у тебя. Хочешь — храни, хочешь — раздавай, хочешь — трать… Как хочешь, так и поступай. Все твое!
— Знаю, знаю, папенька.
— Но скажи только одно, Софка, только одно…
У него был другой голос, он не назвал ее ни «дочкой», ни «дитя», а только «Софкой». И имя ее прозвучало с такой неистовой страстью, что у нее проступили на шее жилы и вся она начала цепенеть. Да и было отчего — нагнувшись к ней и дрожа всем телом, он бормотал:
— Софка, Софка, скажи только одно. Но только правду.
Чтобы видеть ее глаза и убедиться, правду ли она говорит, Марко схватил ее за плечо. Его горячая рука потонула в мягком, округлом плече. Задыхаясь, он умолял ее:
— Скажи, скажи… Ведь это неправда, неправда, что ты в самом деле по-настоящему любишь всех нас.
Софка в порыве внезапно охватившего ее безумия, тронутая силой его любви, исполненная жалости к нему, желая во что бы то ни стало утешить его, успокоить, начала вдохновенно уверять его:
— Люблю, люблю, папенька. Все мне по сердцу!
— Так-таки все?
— Все: и дом, и ты, больше всех ты!
Тут она обессилела. От руки, лежавшей на ее плече, прошла горячая волна по всему ее телу, ей вдруг стало не по себе, ее охватило какое-то незнакомое до сих пор чувство. С ужасом она почувствовала, как под тяжестью руки тело ее независимо от воли стало сгибаться, а в груди затрепыхалось что-то живое — словно птица, готовая вспорхнуть и улететь. Марко почти бегом бросился вон из комнаты, и она слышала, что, прибежав к своим, он, обуреваемый каким-то предчувствием и надеждами, как полоумный начал кричать и приказывать:
— Ворота закрыть, запереть ворота, чтобы никто, никто не вышел… Эх, эх!
XXIII
А потом наступило самое страшное, самое жуткое. Гости, как вошли в первый вечер в большую горницу, занимавшую половину дома, так уж больше из нее и не выходили. Цыгане чередовались, сменяя друг друга. А долгожданный «большой ужин» не начинался. По-прежнему горел и потрескивал огонь в кухне, перед домом, вокруг дома и даже возле конюшни, где расположились совсем немощные старики, горели костры. Всю ночь раскаленные крышки падали на огонь, закрывая круглые противни со слоеными пирогами и разными печеньями. Все это были «подношения», которые каждая семья приносит с собой из деревни, чтобы передать невесте на «большом ужине». Вино носили из погреба в огромных чанах и ставили на кухне вдоль стен, чтобы было под рукой и не приходилось за ним каждую минуту бегать. И женщины, находившиеся возле своих противней, потихоньку пили сколько вздумается. И поэтому у костров, горевших в ночном мраке особенно ярко, гомон голосов, хохот, веселье становились все громче и развязнее. От неверного света, треска, множества огня Софке стало страшно, земля уходила из-под ног, а над головой ни крыши, ни потолка, и все это кружится вокруг нее и вместе с ней — все быстрей и быстрей. Когда стариков, отдыхавших у стены за домом, позвали в большую горницу к столу, Софке показалось, что это делается вовсе не потому, что без их здравиц и благословений нельзя начать долгожданный «большой ужин», — разве им сейчас до еды! — а потому, что без их присутствия и одобрения нельзя приступить к тому, что они намеревались с ней сделать. Потому-то при приближении стариков раздался такой ликующий гул и шум. Входили они медленно, согнувшись, лица у всех были длинные, ссохшиеся, морщинистые. После сна они не могли умыться и шли, утираясь полотенцами. Софка встречала их у низкого круглого стола, целовала им руку и потчевала из большой чаши, которую они, прежде чем сесть, должны были выпить до дна. Из кухни начали вносить «подношения» — разных сортов слоеные пироги, из которых обильно текло масло, и другие печения, каждый раз громко объявляя, от кого оно.