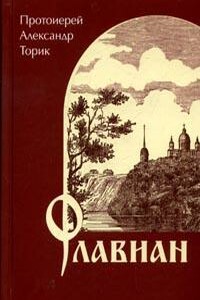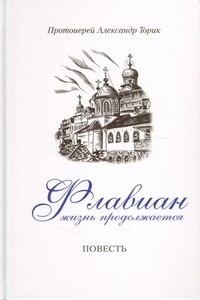Флавиан. Армагеддон | страница 38
Рим поразил меня неким особым, тонко присутствующим, но явно ощущаемым не скажу «благодатным», скажу — «позитивным» духом, словно исходящим от каменных стен, от плит мостовой, от развалин форума, от деревьев, произрастающих из римской земли, пропитанной энергией солнца и всех случившихся на ней исторических событий.
Тысяча лет европейского христианства, прошедшая со времени его рождения в катакомбах Вечного Города до отделения поместной Римской Церкви от Вселенского Православия, никуда не делась отсюда!
Трагическое разделение и произошло в одиннадцатом веке по Рождестве Христовом вследствие искажения евангельского духа и догматов христианского вероучения из апостольско-вселенских в новодельно-«латинские», удобные для реализации честолюбиво-властных стремлений высшего римского духовенства.
Но всё равно первая тысяча лет возрастания и наполнения силой тоненького ростка христианства, проросшего из подземелий каменоломен-катакомб и взломавшего, взорвавшего казавшиеся незыблемыми пласты многовекового язычества в сознании и в сердцах граждан Римской империи — «высшей расы» всего покорённого Римом пространства, — та первая тысяча лет глубоко пропитала саму почву Великого Города духом первохристианского мученичества за веру и аскетического подвига последовавших за ним поколений.
Даже второе тысячелетие постепенного обмирщения и сползания католицизма в социальную и политико-экономическую область мирской жизни с высот совершенствования человеческого духа не смогло истребить эту глубинную насыщенность благодатью святого места, подобно тому как не могут проникнуть вглубь пропитанной антисептиком древесины болезнетворные разрушительные бактерии, лишь производя незначительные поражения на её повреждённой царапинами поверхности.
Мне даже показалось, что Вечный Город вот-вот вновь вздохнёт благодатным духом, стоит лишь расколоть и сбросить ту окостенелую скорлупу бездушного пафоса и ханжеского снобизма, которой Рим покрылся за время поражения его проказой нового язычества в период, названный искусствоведами эпохой Возрождения и метко переименованный русским профессором богословия в «эпоху вырождения», но…
Кажется, я излишне размечтался! Созерцаемые нами в Риме процессы — как, впрочем, и не только в Риме, и не только в Италии, — к сожалению, не давали оснований для таких романтических надежд. Увы!
И всё-таки Рим…
***
— Сеньор Маурицио! — обратился я со всем возможным достоинством и благородной почтительностью к нашему, весьма высокому для итальянца, седовласому шофёру такси с осанкой генерала и взглядом Наполеона Бонапарта с портрета кисти Франсуа Жерара. — Сеньор Маурицио, почему на таком месте, как это (я сделал величавый жест рукой, указывая на небольшую мощёную площадку перед памятником Гарибальди на площади его же имени, на которой две неопределяемого возраста тётки в котелках «а ля Чарли Чаплин» и в коротких юбках отплясывали какую-то бродвейскую чечётку под соответствующую музычку из стоящего на брусчатке магнитофона), — почему эти дамы танцуют здесь что-то пошлое американское, а не народное итальянское, фарандолу, например?