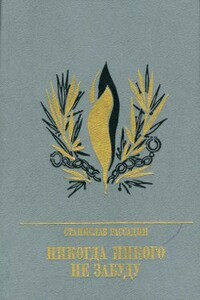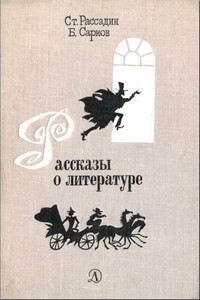Советская литература. Побежденные победители | страница 6
Сбылось ли? Во всяком случае — в полную ли силу мрачного предсказания?
Подумаем. Покуда же — стоит оговорить несколько предварительных условий, дабы читатель мог настроиться на сотрудничество с автором книги, заодно четко представив, чего в ней не будет.
Не будет, к примеру, «литературы народов СССР», что определено ограниченным объемом книги, — к искреннему сожалению автора, так что кавычки здесь не подразумевают иронии. «Национальная политика», которую власть проводила вульгарно и, что много существеннее, лукаво, не сумела полностью подчинить своим целям многие реальные, крупные имена «братских литератур». Галактиона Табидзе и Отара Чиладзе. Кайсы-на Кулиева. Амо Сагияна. Иона Друцэ. Василя Быкова. Да и — пусть с оговорками — Чингиза Айтматова. И т. д. Любой памятливый читатель пополнит этот кратчайший перечень, в данном случае отражающий предпочтения автора книги.
Разумеется, субъективные — при посильном стремлении к беспристрастности. И тут еще одна оговорка.
Классик английской литературной науки Альфред Эдвард Хаусмен когда-то озадачил своих студентов, сказав: если для них Эсхил предпочтительнее Манилия, они — не настоящие филологи. Справка, заимствованная из общедоступной энциклопедии: Манилий — римский поэт I-й половины I-го века нашей эры, автор поэмы Астрономика в пяти книгах, то бишь свода астрологических представлений той эпохи, изложенных риторично и неудобочитаемо. И вот перед ним-то, стало быть, гениальный Эсхил, живым дошедший до нашего времени, не должен иметь предпочтения. Такова беспристрастность, даже бесстрастность истинного ученого.
По счастью, Хаусмен был не только филологом, но и поэтом, отчего оказался далеко не столь академичен, взявшись объяснить, чем подлинная поэзия отличается от подделок: «от нее по спине начинают бегать мурашки». Добавим: задача — этим мурашкам довериться, не прекратив их щекочущий бег скепсисом, происходящим хотя бы и от учености.
Вот выдающийся литературовед Лидия Гинзбург сообщает в письме 1926 года, что к ней привели «одесского поэта и скандалиста Эдуарда Багрицкого… Он читал мне свою поэму, как будто бы хорошую; тверже я не решусь отозваться, кажется, ни об одном произведении, которого не коснулась давность, смягчающая вину…».
А поэма — Дума про Опанаса, всеочевидный, казалось бы, взлет «поэта и скандалиста» к внезапной пронзительной боли за судьбу хлебороба, сбившегося, нет, сбитого с его пути кошмаром гражданской войны. Ученую слушательницу — не пронзило.