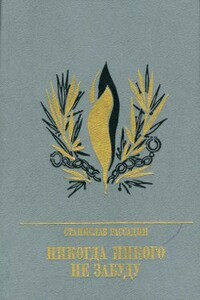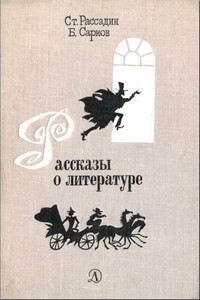Советская литература. Побежденные победители | страница 5
Но о Горьком продолжения разговора не миновать…
Как бы то ни было, возникло нечто, которое, при всех оговорках, при всем сознании условности любых терминов, можно определить как социально-культурный феномен под названием «советская литература». Как советский тип литературного сознания, который одни осваивали с энтузиазмом, другие — отвергали. Опасливо или даже яростно.
Пример восторженного освоения. «Чудесно разговаривал с Мишей Слонимским, — делает в 1922 году запись Корней Чуковский (Михаил Леонидович Слонимский — ленинградский прозаик; 1897–1972). — „Мы — советские писатели — и в этом наша величайшая удача. Всякие дрязги, цензурные гнеты и проч., все это случайно, временно и не это типично для советской власти. Мы еще доживем до полнейшей свободы, о которой и не мечтают писатели буржуазной культуры. Мы можем жаловаться, скулить, усмехаться, но основной наш пафос — любовь и доверие. Мы должны быть достойны своей страны и эпохи“».
«Он говорил это, — не без заметного удивления добавляет Корней Иванович, — не в митинговом стиле, а задушевно и очень интимно. …Если бы ввести в роман то, что говорил М. С., получилось бы фальшиво и приторно. А в жизни это было очень натурально».
И — пример опасливого отторжения. Годом раньше дневниковой записи Чуковского (и, отметим, как раз в том году, когда умер Блок и расстреляли Гумилева), прозаик Евгений Иванович Замятин (1884–1937), только-только закончивший знаменитую антиутопию, роман Мы, но еще не предвидящий, что через десять лет будет выдавлен в эмиграцию из советской России, — словом, он пишет статью под названием Я боюсь.
Чего и, главное, за что, за кого он боялся?
За словесность. За читателя, которому еще не пришла пора быть признанным «лучшим в мире», но в котором уже пробуждали самодовольство внешне и внутренне ограниченного существа: «Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока не перестанут смотреть на демос российский как на ребенка, невинность которого надо оберегать. Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока мы не излечимся от какого-то нового католицизма, который не менее старого опасается всякого еретического слова. А если неизлечима эта болезнь, — я боюсь, что у русской литературы одно только будущее — ее прошлое».