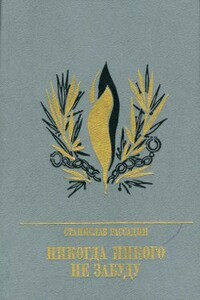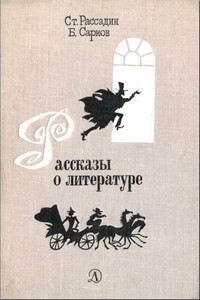Советская литература. Побежденные победители | страница 34
Конечно, то, что приходится сравнивать Фадеева, пусть в его пользу, с литературными погромщиками, а не с Твардовским или тем более Пастернаком, говорит о многом. Но «даже», примененное к автору романа Разгром (1927), кажется незаслуженной снисходительностью.
Увы, писатель Фадеев кончил (если так можно выразиться о вещи, оставшейся незаконченной) романом Черная металлургия, писавшимся по прямому заказу Сталина, но и в знаменитой Молодой гвардии (1945), которую он, напротив, переделывал и портил по сталинскому указанию, персонажи слишком четко поделены на мерзавцев и героев. Причем четкость, вкупе с несчастной идеей вывести почти всех персонажей под фамилиями реальных их прототипов, сыграла скверную шутку не только с этими прототипами (один действительный герой попал в разряд мерзавцев, девушки, облыжно выведенные как предательницы, из-за этого сполна хватили репрессий); она похоронила саму книгу, претендовавшую на честную документальность.
Но Разгром, где гражданская война представлена в беспощадном обличье, достоин продолжить ряд, возглавленный Тихим Доном. Хотя все же один — как выяснилось, роковой — шаг Фадеев здесь совершил.
«Морозка, — сказано в романе о непутевом и добром парне, совершающем подвиг с той же непроизвольностью, с какой он воровал и похабничал, — не любил чистеньких людей. В его жизненной практике это были непостоянные, никчемные люди, которым нельзя верить». И, напротив, вчерашний гимназист Мечик не может принять среду, в которую врос Морозка: «Окружающие люди нисколько не походили на созданных его пылким воображением. Эти были грязнее, вшивей, жестче и непосредственней». Матерились, крали, дрались, издевались над городским видом Мечика, над его правильной речью. И пока — пока! — во всем этом нетенденциозная верность автора правде жизни: и Морозка, и Мечик именно так должны воспринимать то, что им чуждо.
Вот, однако, звучит фраза, в которой, по крайней мере задним числом, угадывается будущий глава литературного ведомства: «…Зато (об „окружающих“, не соответствующих тому, какими их вымечтал Мечик. — Ст. Р.) это были не книжные, а настоящие, живые люди».
Так Фадеев ставит Мечика на место, и его авторский голос смыкается с голосом Морозки. Так называемая художественная объективность уступает место учительной тенденциозности.