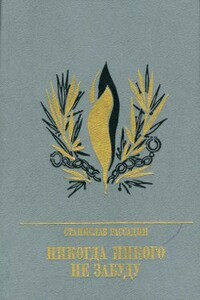Советская литература. Побежденные победители | страница 33
Если даже такой человек, как Григорий Мелехов, вынужден сложить оружие, значит…
Независимо от намерений Шолохова, Тихий Дон вышел не за и не против, он выразил «жестоковыйность» самой эпохи и силы, восторжествовавшей в ней. И в этом свете — как не понять (простить ли, совсем другой разговор) душевный слом, происшедший с Шолоховым? Да, душила официозная критика, обвинявшая в «белогвардейщине». Да, подступали органы безопасности, состряпавшие дело об «организаторе контрреволюционного казачьего подполья» — и когда, в страшном 1938-м! Но, возможно, главный страх был перед открывшейся самому писателю «жестоковыйностью», не оставлявшей выхода и надежд.
Слом — личный и личностный, вызвавший катастрофическое перерождение Шолохова-человека. Драма — тоже личная, но и составляющая, пусть особенно заметную, броскую, но все-таки только часть общей драмы советской литературы.
Перемена фамилии
В одном интервью Сергея Владимировича Михалкова (р. 1913) спросили: правда ли, что Юрия Олешу сломала советская власть? «Ничего его власть не ломала, — твердо ответил Михалков. — Он написал Трех толстяков во времена советской власти. …Это была богема. Он сидел в кафе, пил свой коньяк. Его же в тюрьму не сажали. А могли бы посадить всех».
Атмосфера, когда могут арестовать всех и лишь почему-то пока не арестовывают тебя, уже есть вернейшее средство корежить душу. Но что до Олеши, то привычный для многих образ автора романа Зависть (1927) как гения метафоры, оказавшегося несовместимым со сталинщиной, действительно — упрощение. Да, конечно, Олеша — фигура, не обойденная трагедией, однако скорее в том смысле, что и его коснулась драма художников истинно одаренных, но изнутри, органически настроенных на конформизм. Как было, к примеру, и с тем, кто, казалось бы, никак не может составить пару с этим утонченным стилистом, с «русским Монтенем», «одесским Жюлем Ренаром».
Речь пойдет об Александре Фадееве.
Слишком долгое пребывание у литературной власти почти заставило позабыть, какой талант был ему дан. Даже выстрел в собственное сердце, если и заставил пожалеть о Фадееве, то прежде всего не как о писателе, а именно как о сановнике, имевшем возможность и при случае не упускавшем ее сделать доброе дело.
Подобное же, то есть личная жалость, основанная на личной благодарности, соответственно субъективно, и вот Ахматова скажет, что она Фадеева не смеет судить: «Он пытался помочь мне освободить Леву». То есть сына, Льва Николаевича Гумилева. А Лидия Корнеевна Чуковская (1907–1996), зафиксировавшая эти слова в своих