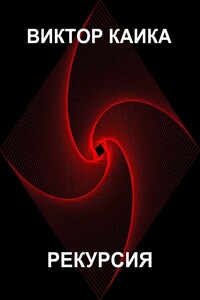Необычайная история доктора Джекила и мистера Хайда | страница 42
Я понимал, что мне предстояло теперь выбирать. Обе мои натуры сообща обладали памятью, но все другие способности распределились между ними очень неровно. Джекил – из-за своего смешанного характера – то волнуясь и опасаясь, то заранее наслаждаясь, обдумывал и делил удовольствия и похождения Хайда, но Хайд был безразличен к Джекилу и вспоминал о нем лишь так, как горный разбойник вспоминает пещеру, где он укрывается от погони. Джекил испытывал более чем отеческую заинтересованность, Хайд испытывал более чем сыновнее равнодушие. Связать свою судьбу с Джекилом – значило умереть для склонностей, которым я так долго втайне потакал и которым последнее время начал давать полную волю. Связать мою судьбу с Хайдом – значило умереть для множества интересов и стремлений, раз и навсегда стать презренным и одиноким. Сделка выглядела неравной, но на весы ложилось еще одно соображение: тогда как Джекил жестоко мучился бы своей трезвой и строгой жизнью, Хайд даже не сознавал бы, что он потерял. Как ни странны были мои обстоятельства, условия этого спора были стары и обыкновенны, как само человечество; ведь почти одни и те же соблазны и страхи решают судьбу любого искушаемого и трепещущего грешника. И вот со мной, как и с огромным большинством моих собратий, случилось так, что я избрал благую долю и оказался не в силах придерживаться ее.
Да, я предпочел пожилого и неудовлетворенного своей жизнью доктора, окруженного друзьями и лелеющего честные надежды, и решительно распростился со своей свободой, со сравнительной молодостью, с легкой походкой, с быстро бегущей по жилам кровью и с тайными увеселениями – со всем, чем я наслаждался под личиной Хайда. Может быть, я сделал свой выбор все-таки с некоей подсознательной задней мыслью, потому что не отказался от дома в Сохо и не уничтожил одежды Эдуарда Хайда, которая по-прежнему лежала наготове у меня в кабинете. Два месяца все-таки я оставался верен моему решению, два месяца я вел такую строгую жизнь, какую мне никогда не удавалось вести раньше, и был вознагражден спокойствием совести. Но потом время начало сглаживать в памяти мой испуг, похвалы совести начали представляться делом обычным и я начал терзаться мучительными желаниями, словно Хайд во мне боролся за свою свободу. Наконец в минуту душевной слабости я опять смешал и выпил преобразующее зелье.
Не думаю, чтобы на суждения пьяницы, размышляющего о своем пороке, хоть раз из пятисот случаев оказала влияние мысль об опасностях, которым он подвергается, становясь по-скотски нечувствительным во время опьянения. Так и я, сколько ни разбирался в моем положении, все недостаточно принимал во внимание полную моральную нечувствительность и бессознательную готовность ко злу, которые были главными чертами Эдуарда Хайда. Но тут-то я и был наказан. Мой дьявол слишком долго сидел взаперти и выскочил наружу совершенно разъяренным. Еще глотая снадобье, я ощущал в себе самое необузданное, самое бешеное желание зла. Наверное, потому и бушевала в моей душе такая буря нетерпения, когда я слушал учтивые речи моей несчастной жертвы. По крайней мере, я клянусь, что ни один душевно здоровый человек не оказался бы повинен в этом преступлении по столь ничтожному поводу и что я наносил удары в состоянии не более разумном, чем больное дитя, разбивающее свою игрушку. Но я-то по собственной воле освободил себя от всех сдерживающих инстинктов, благодаря которым даже худший из нас довольно стойко держится среди искушений. И для меня подвергнуться искушению, хотя и слабому, значило пасть.