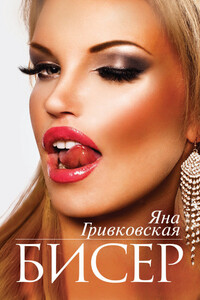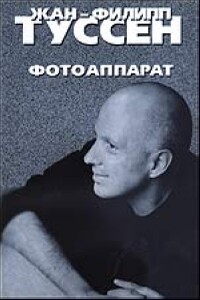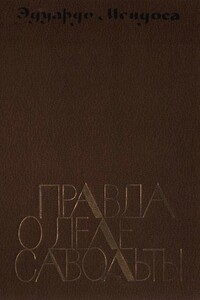Последний поезд в Москву | страница 38
Когда короткая – всего три с половиной месяца – финская гражданская война завершилась в мае 1918-го, Россия только готовилась к противостоянию белых и красных, а вся Прибалтика была еще захвачена немцами. Эстония и Литва провозгласили независимость в феврале, Латвия – только в ноябре 1918-го.
Независимая Латвия утратила свои тылы. Ранее Рига была третьим по величине промышленным и портовым городом царской России[138]. О понесенных в связи с войной убытках и последующем восстановлении говорит изменение численности населения: в 1913-м оно составляло 472 тысячи, в 1920-м – 185 тысяч. К 1930 году количество жителей выросло почти до предвоенного уровня – 378 тысяч.
Связь с Москвой тем не менее сохранялась. К примеру, в 1920-1930-х годах Рига стала опорной базой немногочисленного московского дипломатического корпуса. И многие западные дипломаты, например Джордж Ф. Кеннан, изучали в Риге русский язык перед отправкой в Москву. После Второй мировой московское иностранное сообщество получало снабжение из Хельсинки.
С началом Зимней войны оказавшиеся в западне сотрудники финского посольства в Москве перебрались в Ригу после того, как нарком иностранных дел Молотов признал Финляндию находящейся под дипломатической защитой Швеции и согласился на обмен сотрудниками посольств. Прямой поезд в столицу еще независимой Латвии был самым надежным способом выбраться из советской столицы. После этого и вынужденным пленникам советской миссии на Альбертинкату в Хельсинки разрешено было покинуть Финляндию.
Экономический подъем в Латвии произошел благодаря развитию мелких производств и в особенности расцвету сельского хозяйства, на котором стали постепенно сказываться земельные реформы 1920–1937 годов. И в Латвии, и в Эстонии обширные земли немецкого дворянства раздали безземельным крестьянам. Половина латышских и эстонских крестьян не имела земли, и примерно половина земли и лесных угодий находилась в руках дворянства[139]. По мнению фон Рауха, самой радикальной была земельная реформа в Латвии. Она коснулась 1300 хозяйств, и 1,3 миллиона гектаров земли сменили владельцев[140].
Поговорка, в которой Латвия называется “жирной страной”, говорит сама за себя.
Валентина Фреймане рассказывает в своих воспоминаниях, что высококачественное латвийское сливочное масло в 1930-х годах можно было купить в берлинских магазинах на бульваре Курфюрстендамм, куда его привозили из Риги замороженным по железной дороге