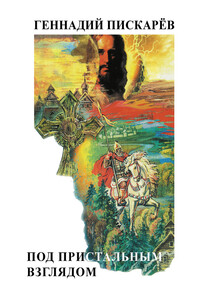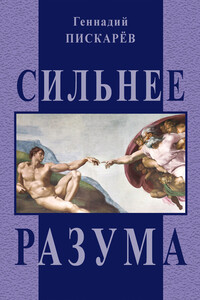Старт в пекло | страница 88
– Выступая в школе, говорю ребятам о гордости хлеборобской, цене хлебной крошки и вижу – не очень-то трогает все это сердца ребячьи. И вспоминаю вслух детство свое лихое. Отца, от голода умершего… Сестра в люльке умирает, а я у мамки кашу ее прошу. Помню, когда вот так же вторая сестренка умерла, мне недоеденный кусочек достался. Что? Тяжело слушать? Вот и ребятам тяжко. Но надо было, чтобы они поняли, что почем…
Мария Михайловна замолкает на минутку и поясняет мне:
– Я говорю детишкам: «Вот если бы вам денек-другой хлеба не дать, чтобы сказали вы?» И слышу в ответ: «Спасибо сказали бы. Ведь мамка хлеб этот и с молоком, и с мясом есть заставляет». Хорошо, что они нужды не знают, но плохо, что не знают цены всему этому…
Я смотрю на нее и вижу в глазах решимость. И приобретают особый смысл стихи, которые только что прочитал в ее тетрадке:
Да, в них любовь, но и требовательная нота, жаркое воззвание к совести: помни, кто дал тебе жизнь как жил он сам. Ничто не дается легко и просто.
…Ее отец «записался» в колхоз на пасху, и был проклят дедом и бабкой. Не устояв перед темной силой родни, он вышел из артели. «И тем погубил себя и двух своих дочек, – скажет Мария Михайловна. – Начавшийся тогда голод побил разрозненных крестьян в первую очередь».
С шестилетней Марией и тринадцатилетним сыном Григорием мать их – Мария Ивановна ушла из родного дома. Ушла в организовавшийся только что совхоз «Красная волна». Жили в бараке, работали. Гриша коней водил: ему за это по 700 граммов хлеба в день давали. А по лету и Марийка пошла – просо молоть. Спрячется при наряде за спину подружки Маруси Паниновой (той уже восемь было – на два года Губиной старше), подложит кирпичик под ноги – ее и посчитают, и в поле возьмут, как взрослую. А вечером – полкило хлеба, как всем.
Не радость ли? Это сейчас думаешь какой же тяжелый был хлеб тот, а тогда одного боялись: только бы бригадир с наряда не снял…
В труде великом обретенный, от голодной смерти спасавший, он, этот хлеб и цену имел великую. Святое к нему отношение вошло в плоть и кровь с малых лет. Не потому ли самым страшным воспоминанием о войне остались для нее не горящий поселок, а полыхающие хлеба:
Запах – как будто живое горит…
Что она испытывала, глядя на это, четырнадцатилетняя девочка, спрятавшая в консервной банке перед уходом из дома пионерский галстук и захватившая с собой только цветок с подоконника? Спустя годы она напишет: