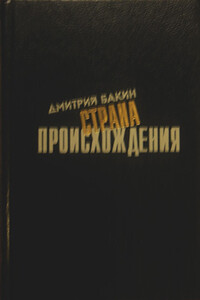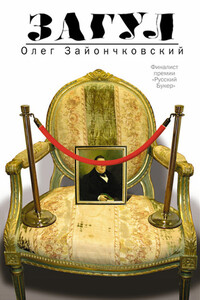Полигон. Знаки судьбы | страница 85
Земли предков. Юрьевец
Точно не помню, кажется, что в 2005 году мы с тобой, Галинка, и с Юлиным семейством поехали на родину моего отца в Юрьевец. Как сейчас я уже знаю, родился-то он не в Юрьевце, а в деревне Дуляпино Костромской губернии, а ныне Ивановской области. Но, видимо, его родители перебрались в Юрьевец, когда ему было ещё относительно мало лет. В рассказах отца город Юрьевец всегда звучал, как родное место.
Юрьевец я имел возможность видеть в три различных периода времени, разделенные многими годами. Первый раз я попал в Юрьевец с отцом, наверное, в 1945 году (плюс/минус 1 год). Это был нормальный провинциальный город, каким и можно было его представить по рассказам отца. Подобные города можно увидеть во многих старых кинофильмах. Дома одноэтажные, с огородом и садом. Улицы чистые. На центральной площади несколько двухэтажных здания районной администрации, райкома партии и, возможно, службы речного пароходства, лесосплавной конторы, районной типографии. Были здания выше одного этажа и на территории пивоваренного завода. Весь город я не обходил, он был сильно вытянут вдоль берега Волги. Может, где-то и ещё были здания выше одного этажа.
На Волге в то время было очень оживлённое движение водного транспорта, пассажирского и грузового. Такого парохода, у которого колесо сзади, и который снят в кинофильме “Волга-Волга”, я не видел. Но основной пассажирский транспорт был представлен пароходами все-таки колёсными. Колёса были с двух сторон, по бортам. Видел и пароход (а, может, уже теплоход?) “Гражданка”, на котором некоторое время в молодости, до призыва в армию, работал отец. Теплоходы с винтовым движителем были редкостью.
Баржи в те времена таскали по Волге буксиры. Это потом их переделали в толкачи. За одним буксиром на длинном тросе цепляли от трех до пяти барж, в зависимости от мощности буксира. Вот буксиры были все винтовыми. Трос был длинным, чтобы струя от винта рассеивалась и не ударяла в буксируемые баржи, тормозя ход.
Особое зрелище представляла буксировка плотов вверх по течению. Так перевозился по Волге лес (брёвна). Когда буксир с плотами, длина которых была огромна, шёл против течения, то казалось, что он стоит. Так медленно он двигался. Местные подростки и молодёжь заплывали на плоты в нижней части города и грелись на солнце, пока плоты двигались до верхней части города.
Многие пассажирские пароходы и теплоходы отец узнавал по гудкам. Как-то мы сидели в садике перед домом и пили чай, или обедали. Раздался один гудок, ему в ответ – два других гудка. Это пароходы при встрече определяют, с какой стороны они обходят друг друга. На реках не было правого или левого движения, как на дорогах. Всё зависело от расположения фарватера, необходимости пристать для пассажирских судов и многих других обстоятельств. Приоритет в определении стороны движения имело судно, движущееся по течению. У него скорость выше и поэтому возможности маневрирования ограничены. Оно и давало первый гудок, а кто-то из помощников рулевого выходил на левый или правый борт и днём размахивал белым флажком, а ночью фонарём, показывая рулевому судна, идущего против течения, с какой стороны ему следует проходить. Если тот соглашался, а так и было практически всегда, то давал два гудка и тоже подтверждал согласие флажком или фонарём. Когда в тот раз прозвучали гудки, отец назвал пароходы и сказал, который идёт сверху, а который – снизу. Как он определил направление движения пароходов, я уже рассказал. Но ведь он и назвал их. Волги из садика через забор не было видно. Я выбежал за ворота на набережную и убедился, что он был прав. Оказалось, что он помнит на слух гудки пароходов с молодых лет, когда сам работал сначала на буксире, а потом на “Гражданке”.