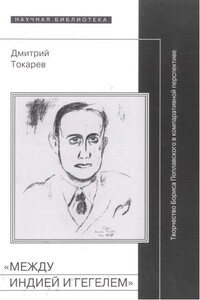О влиянии Евангелия на роман Достоевского «Идиот» | страница 63
Мышкина придается в романе чрезвычайное значение. Хотя автор не мог бы (да и никогда не собирался!) сделать своего «Князя Христа» вполне безгрешным, именно в «детскости» и невинности его проявляется наименьшая, в сравнении с другими действующими лицами, пораженность грехом. Приведенная характеристика Мышкина дается на последних страницах романа, обретая тем самым больший вес и значение, помогая читателю глубже осмыслить центральный образ произведения. Эти слова из Нового Завета жили в памяти писателя многие месяцы. Именно их имел в виду Н. Н. Страхов, когда в середине марта 1868 года писал Достоевскому по прочтении первой части «Идиота»: «Какая прекрасная мысль! Мудрость, открытая младенческой душе и недоступная для мудрых и разумных, – так я понял Вашу задачу»[89].
Очевидно, не без влияния письма Страхова Достоевский на специальной странице рабочей тетради, посвященной Лебедеву, пометил, что он выскажется о князе цитированными выше словами. Это случилось именно в тот день, когда в черновиках впервые появились записи «Князь Христос». Тогда же, 10 апреля 1868 года, Достоевский написал своей племяннице С. А. Ивановой, что совсем не уверен в успехе романа и очень боится неудачи: «Идея слишком хороша, а на выполнение меня, может быть, и не хватит», – признавался он, поясняя, что «идея одна из тех, которые не берут эффектом, а сущностью» (28>2, 292). Развивая и углубляя свой замысел, суть которого Страхов уловил верно, писатель, с самого начала представивший Мышкина читателю как страдающего от «падучей», наделивший его своей «священной болезнью», отводит ей несколько позднее важную роль. Она становится одним из главных средств раскрытия тех глубин мудрости и религиозного созерцания, которые доступны «младенческой душе». Речь об этом пойдет в следующей главе. Но прежде чем перейти к освещению роли эпилепсии в образе главного героя, попытаемся разобраться в том, как воплощалась в воображении Достоевского «сущность» идеи о «Князе Христе», которой автор надеялся «взять», т. е. пленить, читателя. Какие конкретные очертания принимала она? Какими именно качествами Христа хотелось автору наделить Мышкина и на каком фоне должны были они раскрываться? Черновые материалы к роману способствуют прояснению этих вопросов. Внимательное чтение их убеждает в том, что писатель видел своего христоподобного героя живущим в «безвыходном мире и смраде» страстей и интриг (9, 265). Так, кроме нескольких проб пера первой записи «Князь Христос» непосредственно предшествуют строки: «Князь Лебедеву: “Так вы обманули меня?” – “Обманул-с; ибо низок”. (И это несколько раз.)» (9, 249).