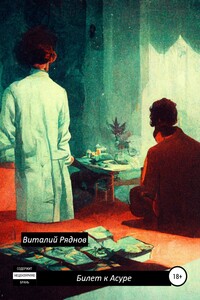Испанцы трех миров | страница 38
Аглая, дароносица красоты и добра, опершись о грушевый ствол под роскошной тройной кроной листьев, груш и воробьев, смотрит на эту сцену с улыбкой, почти растворенная в прозрачности раннего солнца.
ГРЕЧЕСКАЯ ЧЕРЕПАХА
Мы с братом нашли ее в проулке по дороге из школы. Был август, — небо, Платеро, сплошь берлинская лазурь, почти черная! — и жара загнала нас в тень. У стены амбара, в траве, похожая на ком земли, она была беззащитна и вряд ли могла надеяться на Канарио, желтого старика, который здесь обитал. Мы схватили ее, с опаской и с помощью прохожего, и вбежали в дом, задыхаясь и крича: «Черепаха! Черепаха!» Потом мы окатили ее водой, чтобы смыть грязь, и на панцире, как на переводной картинке, проступили золотые и черные узоры.
Дон Хоакин, школьный директор, и не он один, говорил, что это греческая черепаха. Позже на уроках естествознания я увидел ее в учебнике, на картинке под этим названием, точно такую же. А на музейной витрине видел ее чучело и табличку с тем же названием. Так что, Платеро, черепаха действительно была греческой. И такой останется. Она до сих пор здесь. В детстве мы вдоволь поизмывались над ней: подкидывали на качелях, подбрасывали нашей собаке, целыми днями держали ее опрокинутой на спину. Однажды Сордито выстрелил в нее, чтобы показать, какая она непробиваемая. Дробь отрикошетила и убила белого голубя — бедняга пил под грушей.
Порой ее не видно месяцами. И вдруг возникает на куче угля, неподвижно, как мертвая. Иногда знаком ее присутствия — кладка бесплодных яиц. Она питается вместе с курами, голубями, воробьями и больше всего любит помидоры. Весной она — хозяйка двора, и кажется, что ее ссохшаяся старость, бессмертная и одинокая, пустила новый росток, что она родила саму себя на следующее столетие.
ОГОНЬ В ГОРАХ
Грузный удар колокола. Второй, третий… Пожар!
Сердце сжалось, и, бросив ужинать, мы в суетливом тягостном молчании поднимаемся черной тесниной лестницы.
— За Лусеной! — Это Анилья, уже наверху, кричит в лестничный пролет, пока мы выбираемся в ночь.
Бум! Бум! Бум! На воздухе — какой жадный вздох! — гулкий, твердый звук колокола яснеет и бьет в уши, сжимая обручем сердце.
— Большой, большой… Горит на славу…
Да. На черном сосновом горизонте ясный контур огня кажется замершим. Он как эмаль, черная с киноварью, подобно «Охоте» Пьеро ди Козимо, где пламя написано открытым цветом — черным, белым и красным. Зарево то раскаляется докрасна, то розовеет, как молодой месяц… Августовская ночь высока и неподвижна, и кажется, что пламя в ней уже навсегда, как вечная частица. Падучая звезда, прочертив полнеба, проваливается в синеву над Монашьим ручьем… Я забываюсь наедине с собой…