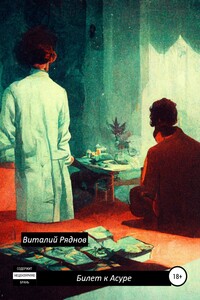Испанцы трех миров | страница 37
Платеро, взгляни, как она кружится. Как, должно быть, радостно вот так летать! Наверно, не меньше, чем я радуюсь стихам. Она вся, душой и телом, в этом полете, и кажется, что для нее больше ничего не существует в мире, то есть в саду.
Тише, Платеро… Смотри и молчи. Что за отрада видеть, как летит она, такая светлая, без пятен и прикрас.
РУЧЕЙ
Этот ручей, сейчас пересохший, по которому, Платеро, мы идем на Конский луг, этот ручей останется в моих пожелтевших книжках, иногда такой, как есть, с заброшенным колодцем в низине, с полевыми маками, опаленными солнцем, с рассыпанными по траве абрикосами; иногда — иносказательный, образный, перенесенный в нездешние края, неведомые и воображаемые…
При виде его, Платеро, детская фантазия вспыхивала, как цветок чертополоха на солнце, радуясь первым открытиям, когда я узнавал, что ручей в низине — тот же самый, что пересекает дорогу в Сан-Антонио рощицей певучих тополей, куда летом я добирался по сухому руслу, а зимой, пуская берестяные кораблики, забредал еще дальше, до гранатовых деревьев у моста, моего убежища, когда гнали стада…
Детское воображение, Платеро, — не знаю, как у тебя с ним обстоит или обстояло — удивительно! Все чудесным образом переиначено, все наяву, а кажется мгновением сна. И ходишь полузрячий, то вглядываясь в мир, то заглядывая в себя, то погружая в душевные потемки груз живых образов, то раскрываясь навстречу солнцу, как торопливый цветок, и поверяя ручью поэзию просветления, которая никогда больше не вернется.
АГЛАЯ
Какой же ты раскрасавец сегодня, Платеро! Иди ко мне… Славную встряску задала тебе утром Макария! Все, что есть белого, и все, что есть черного в тебе, блестит и переливается, как день и как ночь после ливня. Какой же ты красивый, Платеро!
Платеро, слегка смущаясь самого себя, идет ко мне медленно, еще влажный после купанья, чистый, как нагая девушка. Его обличье просияло, подобно утру, и большие черные глаза мерцают так ярко, словно самая юная из граций одолжила им этот жаркий блеск.
Пересказав ему все это, я внезапно, в порыве братского восторга, бросаюсь щекотать его, хватаю за голову, кручу ее в ласковых тисках… Он, потупив глаза, то мягко сопротивляется одними ушами, то вырывается и, отскочив, опять замирает на месте, как озорной щенок.
— Какой же ты красивый, малыш! — твержу я.
И Платеро, подобно бедному ребенку в обновке, семенит застенчиво и неловко, что-то говоря мне на бегу, косясь на меня кончиками довольных ушей, и застывает, изображая, что щиплет пестрые колокольчики у дверей конюшни.