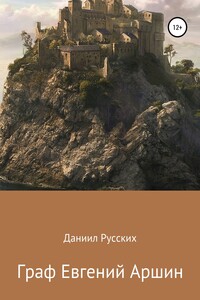Испанцы трех миров | страница 126
Влияние Валье-Инклана ощутимо у многих, кто пришел ему вслед. У Антонио Мачадо, Переса де Айялы, Габриэля Миро и др.; позже — у Гомеса де ла Серны, Морено Вильи, Бастерры, Доменчины, Эспины, Гарсиа Лорки, Рафаэля Альберти и др. и далее, вплоть до самых зеленых, разных на вид и вкус, побегов сегодняшнего барокко, умеренных и неумеренных. Вечнозеленым, густолистным и многозвучным был Валье-Инклан, и широкое поле распахал он для своего посева.
Чувственный и суеверный, он не доверял Богу и верил в колдуний и фей, совсем как ирландцы. Много говорилось и писалось о его фанфаронстве, о его лицедействе. Но его литературные ровесники были куда большими лицемерами и педантами, а фанфаронами и подавно; кто сомневается — прочтите их отклики на его смерть. Он был скромным из гордости, но не смиренным. «Застенчив», — говорил о нем Бенавенте, его верный друг, и был совершенно прав. Я всегда видел его открытым, доброжелательным, внимательным, достойнейшим. Кто-то, прочтя это, спросит: «А его злоязычие? Забыли, что он говорил в ваш адрес?» Отвечу: «Неважно, что он говорил. Он мне ничем не обязан. А я ему многим». Кроме того, Валье всегда на вызов отвечал честным поединком, в этом он был настоящим мужчиной, готовым к отпору. Те, кто изводит своими кознями, плутнями, наветами, это последыши, те, что завидуют первородству и старших, перед которыми в долгу, стараются как могут побольней уколоть и принизить, чтобы заявить о себе. Конечно, с такими, невзирая на их явные или мнимые заслуги, разговор короткий, в духе Кардуччи, чтобы не тратить на них лишнего времени. Валье-Инклан и в этом первенствовал, но к отповеди никогда не примешивал злобу, не отравлял ее завистью, не копил неприязнь ради собственного успокоения. А ведь у него было столько причин, столько поводов озлобиться!
Он годами умирал от голода и молчал об этом. Теперь я часто думаю — в тот зимний день или в ту праздничную ночь, или в тот поминальный вечер, когда Валье-Инклан не расставался с нами, у него не было ни крошки во рту. Но тогда я был настолько не от мира сего, а он настолько погружен в себя, что ни он, ни я этого не замечали. Его кулинарные остроты, пущенные для отвода глаз, я совершенно не сопоставлял с ним самим. Они казались мне такими же беспредметными, как его филиппики, потому что филиппики эти были позой, ложным выпадом. Ему важно было само сказанное, его выразительность, а не цель, не объект и не сведение счетов. Он не держал зла даже на скудоумного Мануэля Буэно, который лишил его руки. Чего совсем не знали наши мертвые титаны — ни Валье-Инклан, ни Рубен Дарио, ни Габриэль Миро — и живые, ни Бенавенте, ни Унамуно, ни Ортега, так это зависти, жгучей черной зависти, питавшей хлыщеватую столичную изворотливость той поры и всех последующих. Литературная и нелитературная борьба Валье-Инклана была дымом без огня, театральной войной шутих и хлопушек. Я не раз видел, как Валье-Инклан заносил палку, но ни разу она не опускалась.