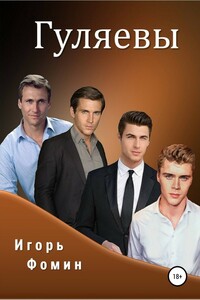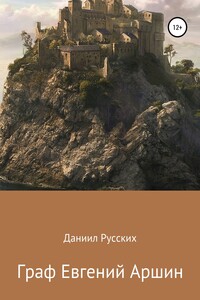Испанцы трех миров | страница 125
Валье-Инклан не был ни идеологом, ни воспитателем чувств и не помышлял об этом. Он хотел оставаться таким как есть, неважно — во благо или во вред себе. Рефлексия не точила его цирковую натуру акробата. Поэтому его «Волшебная лампа» часто чадила. Но в своей стихии, брутальном романтизме, ироничном и чувственном, в сумбуре кошмарных персонажей и событий, которые он назвал эсперпенто, он не знал себе равных, и те, кто подражал ему, — например, Лорка — не смогли его превзойти. Он был эстетом народной образности, внезапной и неистощимой. Свой стиль, свой язык он искал не в словарях, которыми не пользовался даже при неполадках с орфографией, а на улицах, на дорогах, в харчевнях, в собственных закромах, в закоулках памяти, внутри себя. Он сосредоточился на языке, в языке, проник до корней речи и заставил ее цвести и плодоносить. Каждое слово было пластом речи, и думаю — все, что не просилось на язык, для него просто не существовало. Он был — говорю серьезно — красноречиво косноязычным, человеком фатально, непоправимо неискушенным, хозяином и расточителем своей щедрой неискушенности, человеком, который ежедневно, движимый инстинктом и словом, шел навстречу смерти, в людском потоке или в море одиночества, чужой всем и вдвойне чужой себе. Потому что Валье-Инклан был не идеалистом, он был, на свой галисийский лад, факиром, безучастным к косной материи, включая собственную. Когда ему ампутировали левую руку, он брезгливо отказался от хлороформа и во время операции беседовал с хирургом об искусстве и политике. Однажды, демонстрируя презрение к боли, он прострелил себе ногу, к счастью, не причинив большого вреда. Когда врач, которому он пожаловался на слабость и исхудание, поинтересовался, чему он сам это приписывает, он ответил: «Наверно, перееданию», — притом, что питался от случая к случаю.
Неизведанное свежими сочными губами порой нашептывает нам свои секреты. И порой у него выпытывают больше, чем оно собиралось поделиться внятно. Инстинкт Валье-Инклана дал нам намного больше, чем кто-либо и, может быть, он сам могли предвидеть. Этот иссохший с виду человеческий остов был древесным стволом, по которому текли из корня в гортань земные соки, разбухая весенними соцветиями, дозревая осенними плодами. Бесплотный, он был воплощенной речью, говорил, балагурил и вряд ли сам понимал, как и почему его взрывчатое слово плавит, дробит и чеканит неизвестное. Рассказчик и сказитель, он рассказывал Испанию, сплавив воедино — по крайней мере в своих зрелых вещах — лексику самых бойких и острых на язык окраин, их терпкие идиомы и обороты, включая испаноамериканизмы тех заморских стран, которые знал или угадывал, но не по книгам, а в живом общении. Он создал сжатый, спартанский синтаксис, уплотнил язык и спрессовал его в слиток, быть может, такой же прочности, как циклопический каменный престол галисийского Сантьяго, как если бы в Галисии собрался агреопаг всех окрестных Испаний, парламент необъятной испанской республики, а он в этой республике стал бы… признанным королем — нет: вечным претендентом на трон.