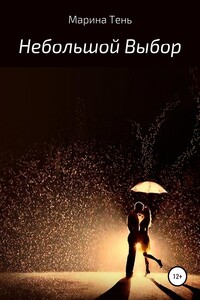Испанцы трех миров | страница 105
Разлаженный механизм неприглядного назначения внутри чудовищного механизма, чудовищно разлаженного, человек становится враждебным своей природе придатком бесплодного окружения и растущего разлада.
Разлад. В миропорядке, действительном или кажущемся, человек должен быть соизмерим со своей жизнью.
Нью-Йорк рушит вековую иллюзию человеческой соизмеримости с миропорядком. Его правда безрадостна; вот почему нью-йоркцы, хотя и утверждают обратное, так унылы.
Нью-Йорк, Вавилон прогрессивной тоски, стал единой бесформенной машиной, которую обитатель его видит изнутри — серый никто, неведомый ни себе самому, ни своей гнетущей машине.
Как выглядят руки мужчины и женщины с высоты пятидесятого этажа? Чем кажутся в их руке цветок, подаренный любовью, яблоко, разрумяненное осенью, книга, написанная поэтом, с высоты семидесятого этажа? И, наконец, какого размера представляется душа того, кто проходит, душе того, кто смотрит на прохожего с восьмидесятого этажа?
Человек и природа должны жить в согласии и беречь его. В Нью-Йорке нет ни того, ни другого, верней, они предельно искусственны.
Для меня жизнь в Америке (всей Америке) — изнанка европейской. Что-то промежуточное между жизнью и смертью — по крайней мере, моей жизнью и моей смертью.
Но европейская смерть сегодня не та, что была еще вчера, в моей Европе. И моя смерть уже не та. Европа может обернуться для меня смертью, Америка станет моим бесконечным небытием.
Европа дала мне мою испанскую почву с ее душой и плотью, мое солнце и мой язык — и взамен отняла у меня свободу. Америка дает мне свободу взамен души моего языка и моей земли. Здесь, в Америке, такой красивой, я — вольное тело, неприкаянный дух, ходячая самоутрата.
Безысходно пространство, и нет места вырванному с корнем испанскому тополю?
Красив воскресный Нью-Йорк! У здешней недели должны быть шесть воскресений и один понедельник. Тогда жизнь наладится.
Глубокой ночью в сизом небе мерцают бессонные отсветы и зыблется глубокая тьма над влажным поблескиванием листвы. Какая роскошь! Для меня, без малейшей связи ни с чем и ни с кем, это мой приют.
Для чужака, где бы он ни был, природа — королева, если не мать, — это неистощимое богатство, заговоренный клад. Безымянная природа, сама по себе, сама в себе.
Внезапно, в лабиринте оглушительных, умеренных и вовсе глухих шумов, я слышу входной звонок нашего мадридского дома. Письмо, гостья? В непосильном гулком водовороте этой мертвенной жизни воспоминание звучит далеким, еле слышным эхом. В неустанном гудении лифтов, хлопании дверей, перестуке молотков, перебранке клаксонов я слышу бесшумную дверь, вечернюю тишину, отзвук мадридского заката.