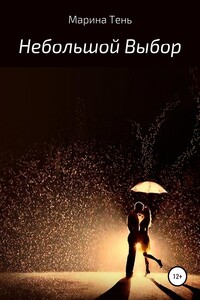Испанцы трех миров | страница 104
Наконец, устав от поисков, ты сердилась и говорила: «Выходи сейчас же, это уже не игра!»
И уходила. А я выглядывал из моего укрытия, смеясь.
Сейчас укрылась ты — так надежно! — и я не нахожу тебя.
Я ищу и ищу и, чувствуя близость ночи, в тоске повторяю: «Мама, выходи, это уже не игра!»
Я ухожу один. А ты — ты выглянешь, улыбаясь, из укрытия?
ИЗГНАННИК
(Из дневника)
«Заживают раны, но не обиды».
Некий человек держал у себя льва, коего вырастил с детства, но однажды, воспылав к нему злобой, взял меч и рассек ему голову, и сопроводил содеянное бранью: «Зверь лютый, чуешь, тварь ядовитая, сколь зловонен дух, тобой испускаемый…»
Такого не должно быть, ибо рана заживет, обида — никогда.
Посему, сын мой, слова, кои говоришь, обдумывай до того, как скажешь…
(Слова, с вашего позволения, народные.)
(Слова, с вашего позволения, народные.)
Прошлое и тогда прошлое, когда не прошло.
От Шербура до Нью-Йорка (пять бесконечных серых дней) гнетуще одинаковое море. (Прежде оно не было одинаковым.) Плотная полированная выпуклость ртути. Лишь иногда ртуть отсвечивает розовыми, бирюзовыми, амарантовыми оттенками, становится радужной или вороненой, но по-прежнему безнадежна.
Я не видел моря. Весь я, душой и телом, был на моей обезумевшей земле.
Двадцать лет назад у Нью-Йорка еще были душа и тело. Теперь это машина. Машина в движении. Куда — вдаль? внутрь?
Нью-Йорк автоматически разрушает сам себя. Это образцовый — и неизбежный — ход регрессивного прогресса или вернее — прогрессивного регресса.
Прибыв в Нью-Йорк (сентябрь, сырое утро, серое солнце), из мятежного испанского ада в райскую твердыню свободы и богатства, я обнаружил, что те обещанные оазисы жизненной силы, что в 1916-м, казалось, уже угадывались, окончательно затерялись в огромном кубистическом кладбище живых, где старые кладбища мертвых кажутся островками жизни, сберегшими ее смысл и красоту. Мертвые еще живы, а живые замурованы, загнаны, втиснуты в геометрию грязного камня, холод гнутого железа, скудость искусственной зелени.
Потому что прогрессирующий город неизбежно становится пожизненной тюрьмой, тюремным лабиринтом, где человек сбит с толку тупиками выходов и сливками прогресса — скверным шумом, скверным запахом и всем остальным, таким же скверным на вид и на ощупь.