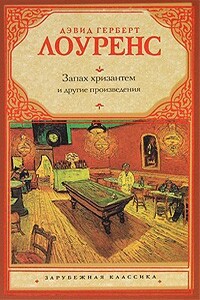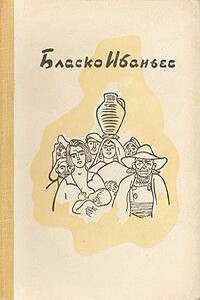Радуга. Цыган и девственница. Крестины | страница 9
Она совсем не была умна и полагала, что ума Урсулы вполне хватит на двоих. Раз Урсула понимает, зачем же ей, Гудрун, тогда и заботиться? Всю ответственность и все руководство обеими жизнями она возлагала на свою сестру. Сама она предпочитала оставаться равнодушной и безразличной ко всему. Оказавшись в классе одной из последних, она лениво усмехнулась и с довольным видом сказала, что теперь она чувствует себя в безопасности. Ни гнев отца, ни вид смертельно оскорбленной матери не произвели на нее должного впечатления.
— Скажи, пожалуйста, зачем, собственно, плачу я за тебя деньги в Ноттингаме? — с глубоким раздражением спросил отец.
— Вы очень хорошо знаете, папа, что можете и не платить, — ответила она с небрежным видом, — я буду очень рада остаться дома.
Она ощущала себя дома счастливой. Урсула этого не могла. Незначительная, вялая в чужих стенах, Гудрун, попадая домой, чувствовала себя уютно и удобно, как зверь в своей норе. Урсула, наоборот, теряла всю свою живость и бодрость, не могла побороть в себе смущения, как будто не хотела или не могла быть собой.
Тем не менее воскресенье оставалось для обеих желанным днем недели. Урсула страстно тяготела к нему, как к символу безграничного спокойствия и мира. Всю неделю она переживала ряд опасений, чувствуя над собой тяготение внешних сил, не желающих признавать ее. Она всегда не любила и боялась авторитетов, и ей это очень мешало. Она знала, что могла бы поступать по-своему, если бы сумела устраниться от чужого влияния и от борьбы с признанными авторитетами. Но сдаться, уступить для нее значило потерять себя, почувствовать себя сломанной. Это было для нее большой угрозой.
Она всегда инстинктивно опасалась каких-то жестоких и безобразных выходок, неминуемо ожидающих ее, всегда чуяла завистливую чернь, подстерегающую ее, как нечто исключительное, и это ощущение наложило резкий отпечаток на ее внутренний мир. Где бы она не находилась — в школе, или среди друзей на улице, в поезде, она всегда инстинктивно сжималась, старалась стать меньше и незначительнее из страха, что ее внутреннее Я будет открыто, извлечено, и подвергнется жестокому нападению со стороны обиженной пошлости, среднего Я.
В школе она теперь чувствовала себя увереннее и знала, где может проявить себя и где должна сдержаться. Но совершенно свободной она становилась только по воскресеньям. Однако, уже четырнадцатилетней девочкой она стала чувствовать, что в доме нарастает неприятие её. Она знала, что была там чуждым элементом, вносящим тревогу и раздражение. И все-таки по воскресеньям чувствовала, что дома может быть сама собой, вольной, не боясь ничего, не опасаясь никаких недоразумений.