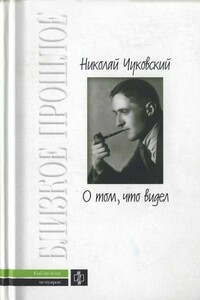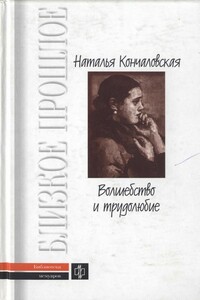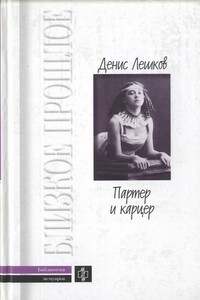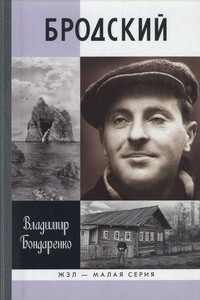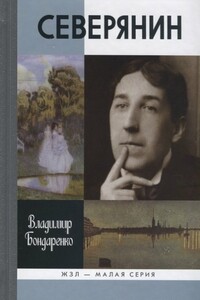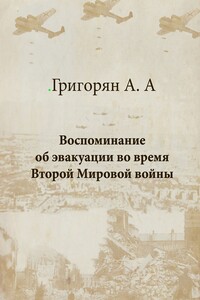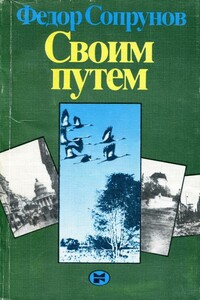Последние поэты империи: Очерки литературных судеб | страница 35
(1971)
Столь бережный подход к воспоминаниям о войне, объединенным с реальными приметами наших дней, лишь укрепляет память о погибших героях. В конце концов это и есть лирический подход к памяти народной. И этот лирический жест «с ним мы и выпили за благодать» превращает дружескую пирушку в реальный символ памяти. Думаю, то, что называется «лирическим жестом Соколова», — единственно необходимое из той громкой поэзии о стройках, войнах и революциях, которую ему навязывали друзья вроде Евгения Евтушенко. И на том спасибо. Тогдашняя безвестность, о которой писал Анатолий Жигулин, его не пугала, в безвестности писались хорошие стихи, издавались книги, были друзья, была любовь. Не думаю, что перестроечный период, когда поэта вдруг допустили к литературной власти, дал ему нечто новое и ценное. Эта суета, насколько я понимаю, лишь озлобила его, сделала более одиноким. Подкосила здоровье. Такому тонкому лирику совсем не нужна была никакая власть. Оставалось на закате жизни лишь вспоминать с нежностью свою былую безвестность:
(«Безвестность — это не бесславье…», 1966)
Но вернемся к его знаменитому «лирическому жесту», преобразующему все-таки его «тихую лирику» в некий неожиданный волевой призыв, явно отличающему его прозрачность и напевность от более созерцательной лирики Афанасия Фета. Продемонстрируем «лирический жест» в нескольких его лучших стихотворениях:
(«Мой Лихославль сгорел дотла…», 1990)
Это из поздних его стихов, вполне доказывающих его неприкаянность в демократическом раю. Сгорел его родной Лихославль, как сгорели в нищете и разрухе и сотни тысяч других городков России. Но эта пасмурность и печаль могут привести и к бунту, к сопротивлению, и к смирению. Все определяет «лирический жест» героя: «Я устал бродить по свету» и «Я не знаю, кто стоит, / Невидимый, со мною рядом». Вот она, искренняя правда героя, уставшего и от пожара родины, и от собственных лишних блужданий, не уверенного, что рядом не стоит слуга дьявола.