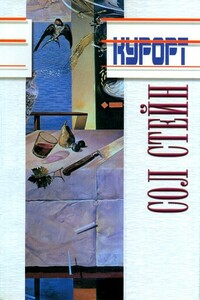Рассказы | страница 26
Вот и теперь она сидит притихшая. Дело не только в безнадежности путешествия. Ключ и у Элли, несомненно, пробудил какое-то неведомое до того чувство — неважно, что она говорила или что он ей сказал. Он ведь почти поделился с ней ключом — это всем понятно. Альберт хмурился и улыбался почти одновременно. Что-то от него ускользало — еще немножко, и он поймет, и тогда можно будет навсегда оставить этот ключ у себя. Он знал, что непременно поймет, когда останется один.
«Не бойся, Элли, — сказал он, и его губы тронула тихая улыбка. — Ключ у меня в кармане. Никому его не найти, и дыры там нет, он не выпадет».
Она кивнула, но она ведь всегда сомневается, всегда тревожится. Только поглядите на ее беспокойные руки. Как ужасно, как странно, что ключ ему дороже Элли! То, что они пропустили поезд, его нисколько не огорчало. Об этом говорило каждое его движение. Ключ был важнее, важнее. Случившееся осветило их, будто взвившееся пламя фонаря. Суетливая, крупная Элли могла укрыть его, как теплая колыбель, но таким знаком, полным тайного смысла и силы, такой уверенностью, к которой он стремился и которую, несомненно, заслужил, — этим она не владела. Чего-то в Элли не хватало.
Могла ли она с ее вечной подозрительностью постигнуть подобное, понять, пусть в меру своего разумения? Ее красные, заскорузлые руки ничего не могут выразить, хотя и пытаются изо всех сил! Да, для нее его спокойствие — несчастье, разделившее их даже больше, чем пустота. Ей необходимо тревожиться, говорить, говорить. Можно легко представить, как она бросает сбивать масло и выходит к нему на веранду, где он сидит в кресле, и говорит, что любит его и всегда будет заботиться о нем, а капли молока стекают с ее пальцев. Попробуй-ка объясни ей, что разговаривать бесполезно, что он не нуждается в заботе… И в конце концов он обычно соглашался с ней, и она опять уходила…
По лицу Альберта, на котором так легко проявлялось изумление, можно было догадаться, как это непросто — разговаривать с Элли. Пока не говоришь, читали вы в его круглых карих глазах, чувствуешь себя мирно и спокойно, и все как-то обходится. Пока не вмешиваешься, все идет гладко, своим чередом, как дела на ферме в спокойный день: она — на кухне, сам ты — в поле, хлеба, как им и положено, растут, корова доится, и небесный свод над всем этим, как покрывало, и ты радуешься просто так, словно жеребенок, — ни тебе ничего не нужно, ни от тебя ничего не требуют. Но стоит только поднять руки, сказать что-нибудь — и все становится ненадежным. Ты только заговоришь о чем-нибудь, сделаешь какое-то замечание, просто чтобы успокоить жену, и все уже сломано, нарушено, выворочено, как земля позади плуга, а ты знай поспевай за ним.