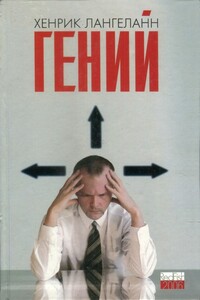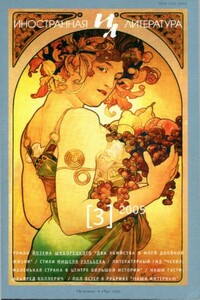Ссыльный край | страница 12
Но буквально уже через несколько лет после создания колхоза, люди там работали дружно и организованно. Деревня была не большой, всего – то в шестьдесят дворов, все хорошо знали друг друга, первым председателем выбрали Лазарева Василия Григорьевича, человека хозяйственного, работящего и упорного.
Колхозные рыболовные бригады уезжали на добычу далеко за пределы деревни, осенью и зимой мужики уходили в тайгу белковать, по всей тайге расставляя свои зимовья. На острове Ермаков распахивали земли и сажали рожь, овёс, ячмень, пшеницу. Корма для скота заготавливали на острове Хавей, до него от деревни почти двенадцать километров, и переезжать на лодках надо было на другую сторону Енисея, да лугов ближе не было, и приходилось с этим мириться.
Колхозники работали дружно, не считаясь со временем, так уж были приучены и всегда выполняли план поставок перед государством, но совсем плохо стало, когда забрали мужиков на войну, все работы свалились на плечи баб, да подростков. Они и сети ставили, и невода тянули, и пахали, и сеяли. Хуже всего было с кормами для скота, ну некому было их заготовлять, вот и сводили весной еле – еле концы с концами. Коровы переставали доиться от бескормицы, а лошади в ожидании первой травы, едва могли тащить за собой плуги. Приходилось в бороны и сеялки запрягаться молодым парням и девчонкам, и ничего, тащили – падали от усталости, надрывали животы, девчонки плакали потом втихаря, прячась от парней, но главное дело делали, стране нужен был хлеб, даже и речи быть не могло о том, чтобы не выполнить план по поставкам зерновых.
… В бригаде у Михаила Константиновича было вместе с ним три человека – его сынишка Санька, которому было уже тринадцать лет, да напарник Федька Лазарев, сын председателя колхоза, он тоже фронтовик и тоже списанный на трудовой фронт. Пришлось ему после артиллерийского обстрела гореть в землянке, успели его сослуживцы вытащить ещё живого, да обгорел он сильно – и лицо, и шея, и плечи, и грудь, долго лечился, но всётаки пришёл с войны живой, на радость семье. Обгоревшее тело у него было какого-то желтоватого цвета, его и звали в деревне – Федька Горелый. Провожали на войну всегда пьянками, песнями, слезами бабьими, знали они бедные, что война, это горе людское. Мужиков партиями загружали в шитики и долго везли сначала в Ворогово, а затем и в районный центр – Ярцево. Потом, через некоторое время стали приходить письма от фронтовиков, а затем и похоронки. Все родственники ушедших на войну жили в постоянном напряжении, каких ждать вестей – живой, или похоронили где-нибудь далеко на чужбине, а может от ран страдает в каком-нибудь госпитале. Но потом понемногу стали возвращаться мужики – избитые, израненные, кто и без рук, без ног, но всё– таки живые. Приходили с войны и снова работать в колхоз, кто, где мог, тот там и работал, основная же нагрузка всё равно ложилась на сильные, выносливые бабьи плечи.