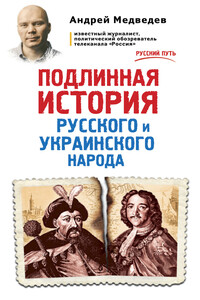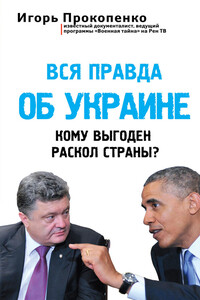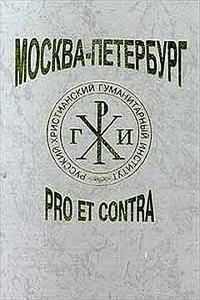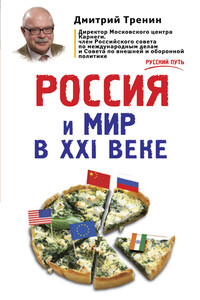gehabt zu haben; S. 99)
[7]. Проповедь целомудрия исходит, по его циническому замечанию, от «verunglückten Schweine». Фейербаховское
[8] слово о «здоровой чувственности» он считает словом искупления от болезненного обскурантизма христианской морали. «Парсифаль» Вагнера
[9] для него признак вырождения таланта великого композитора, его чрезмерного подчинения Шопенгауэру. Правда, всякое животное, а потому и la bête philosophe, инстинктивно стремится к лучшим и самым благоприятным условиям для проявления своих сил, и к этим условиям относится известное воздержание от чувственности ради приобретения большей свободы и независимости. Женатый философ «gehört in die Komödie»
[10], и «Сократ, вероятно, женился (и имел детей?) только ради иронии». Но никакого другого смысла, как только служить одним из средств личной независимости, аскетизм не имеет, и свобода нравов есть для Ницше все-таки необходимое условие и этой самой независимости как средство для полного самоурегулирования личности на пути к достижению полнейшего расцвета сил, т. е. высшей гениальности. Поэтому он допускает только «веселый аскетизм» (heiterer Asketismus) божественного и оперившегося животного, «которое более парит над жизнью, чем покоится в ней» (S. 112). Но проповедь аскетизма как пути к духовному совершенству, как средства избавиться от вины, греха и страданий Ницше клеймит презрением. Аскетизм христианский был временным и случайным идеалом, случайным способом решения проблемы — «ради чего страдать». Это был идеал «faute de mieux»
[11]. «Воля к жизни» была временно спасена этим решением вопроса, ибо человек лучше готов стремиться к своего рода «ничто», чем не стремиться ни к чему (S. 181–182). Но теперь пора стряхнуть с себя нелепое ярмо.
Совершенно иначе смотрит на воздержание, самообуздание и самоотречение Толстой. Правда, и ему чужд средневековый идеал монашества и добровольного удаления от жизни в пустыню и одиночество, но вместе с тем Толстой видит в воздержании от чувственности, от всяческого сладострастия и животности — первую задачу духовной человеческой личности. Мы знаем, как энергично, всеми писаниями своими, начиная от «Анны Карениной» и кончая «Крейцеровою сонатой» и «Послесловием», он проповедует целомудрие, как красноречиво в «Первой ступени» он восстает против мясоедения, а в «Плодах просвещения» — против обжорства, какой он враг вина, табака и всяких наркотических средств, как глубоко запала в его душу мысль о необходимости упрощения жизни и отречения от всякой роскоши, излишеств и ложных потребностей.