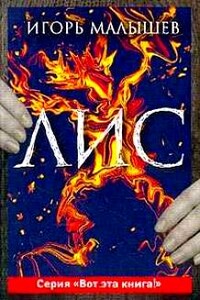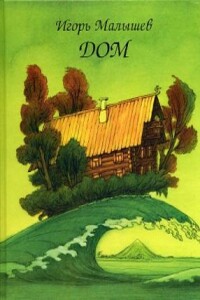Номах. Искры большого пожара | страница 16
– …Бой – это музыка, – доказывал он Аршинову, разгоряченный самогоном и буйством соловьев за открытыми окнами. – Неужели не слышишь, сухой ты человек?
– Скажешь тоже… Бой – это работа, Нестор.
– Нет, – доказывал Номах. – Врешь! Музыка! Песня! Пляска! Вот что такое бой.
Он отвлекся.
– Люблю музыку. Ох, люблю. Победим, везде музыка будет. В домах, полях, на заводах. Везде. Музыка – это сама жизнь, вот что она такое.
Аршинов посмеивался.
– Чепуха, Нестор. Эмоции. Такое институтке пристало говорить, а уж никак не командующему армией. Это девушки эмоциями живут, а тебе эмоциями жить нельзя. За тобой тысячи бойцов стоят. Немного времени пройдет, и сотни тысяч встанут. Музыка…
– Эх, Петро… Сколько гляжу на тебя, не понимаю, как ты в анархизм попал? Анархизм – стихия, свобода. Это…
Номах взмахнул рукой, не находя нужного слова. Расстегнул пару пуговиц на френче.
– Это ж как праздник. Праздник свободы. Я вот сейчас живу, и у меня каждый день такое чувство, какое только в детстве на Рождество или Пасху бывало.
– Ты, Нестор, разберись, анархист ты или поп, а то неясно получается.
– Да все тебе ясно, товарищ Аршинов…
Номах высунулся в окно, вдохнул запахи южной степной весны, прислушался к птичьему пению. Чуть повернул голову, чтобы Аршинов лучше слышал его, и заговорил:
– Я, когда по тюрьмам сидел, знаешь, о чем больше всего тосковал? О запахах этих. В камерах ведь чем пахнет? Кислятиной тел человеческих, затхлостью, паскудной едой тюремной. И никогда вот такой свежестью. Живой землей никогда не пахнет, травой, что только на свет вышла, почками, листьями…
Аршинов свернул тугую самокрутку, постучал ею по столу, выбивая случайные крошки.
– Я тюремного житья тоже вдоволь хлебнул, ты знаешь. Но я оттуда не к березкам рвался, не к василькам. Людей видеть хотел. Люди мне нужны были. А еще отомстить хотел. Тем, кто меня за решетку, на нары бросил…
– Смотри, Петр, – оборвал его негромко Номах. – Месяц над полем взошел. Прозрачный, как лепесток.
– Да что ж ты все о глупостях-то? – с досадой стукнул ладонью по столу Аршинов. – И смотреть не буду. К чему?
– Да так… Красиво.
– Ты при бойцах такое не ляпни, засмеют. «Красиво»… А по мне, так паровоз во сто крат красивей, чем и месяц твой над полем, и лепестки, и вся эта природа твоя.
– Паровоз?
– Паровоз.
– Ох ты как… Ну, ладушки. Посмотрим.
Они замолчали, в дом из раскрытых окон лилась живая степная тишина.
…Дверь отворилась. Вошел часовой.
– Нестор Иванович, там поймали когой-то, – шмыгнув носом, сказал.