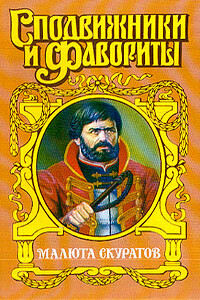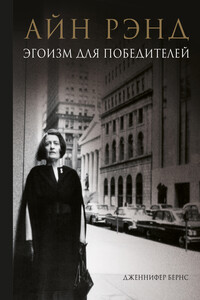Еврейский камень, или собачья жизнь Эренбурга | страница 65
Я лично получил Бруно Ясенского, запрещенного напрочь, от кого бы вы думали?.. Правильно!.. От сынка хрущевского охранника Вадика Столярова со строгим предупреждением не показывать никому под страхом смерти и под честное слово, что ни при каких обстоятельствах не открою никому секрет, от кого получил нестандартного формата — удлиненного — книгу в яично-желтом переплете. Переплет захватанный, но шикарный: дерюжка в рубчик, хотя, возможно, обложка была чужая. Ободрал меня Вадик прилично. К нему перешли шесть выпусков «Тайны профессора Бураго», «Золотой теленок», и еще я ему остался должен — любую книгу на выбор: какую достану, из тех, что ценятся подороже.
— Если выдашь — сядешь! И твои сядут. Я тебе гарантирую, — предупредил он. — Пожалеешь!
Я не собирался никому его выдавать. Получив роман, я спрятал его в кухонной плите, которую мы почему-то называли печкой. Она была облицована коричневым кафелем — огнеупорным, но пользовалась мать ей редко. Я читал Бруно Ясенского по ночам в туалете, накинув крючок и вздрагивая от любого скрипа. Прочел; если бы тогда знал эпиграмму Маяковского, то присоединился к ней. Дня через два, не выдержав съедающей душу тайны, вместо того чтобы оттащить ее хозяину, принес в школу и всучил приятелю Борьке Зильбербергу, слово в слово повторив наказ Вадика Столярова. Борька Зильберберг — одессит, у него дядя работал докером в порту. Ему, дяде и всей бригаде докеров, такелажников и грузчиков сам черт не брат! Борька книгу взял и тут же посеял заглавный лист с фамилией автора и названием романа.
Почему директор 147-й Урилов вызвал меня, не понимаю. Борька не мог проговориться. Книгу он возвратил, по-моему, не дочитав. Урилов учинил мне допрос и пообещал сообщить в милицию, чтобы нашу квартиру обыскали. Жили мы — отец, мать и я — у тетки на Институтской, 36, как раз над фирмой «Коммунар», где шили начальничкам обновы и заодно выдавали пайки. Я себе представил кошмар, который нас ожидал. Один обыск мы уже пережили, когда брали отца в январе 1933 года. Высокий в кожаном реглане и горбун в короткой шинели возникли в дверях в полночь, а исчезли под утро. Ничего не нашли, забрали пару книг и тетрадочку с переписанными стихотворениями Есенина. Вот не помню — содержала ли она поэму «Страна негодяев». Второго обыска и, может быть, ареста отец и мать не переживут. А тетка и подавно: у нее своих бед выше крыши — гонят из театра имени Ивана Франко на все четыре стороны. Ну и так далее… Урилов пытал меня, пытал и, ничего не добившись, отпустил. Метров сто — от дверей школы до угла Левашовской — я преодолел одним прыжком, квартал по Левашовской до Институтской — не знаю за сколько минут, но первый разряд — точно! Еще сто шагов по Институтской — и опять прыжком, не чуя сердца — на пятый этаж, осмотрелся с балкона — никого: ни машин, ни людей! В кухню! Дома, слава Богу, пусто. Спички, керосин, костер. Пламя протуберанцем наружу — оттого, что плеснул и бросил спичку, еле отшатнувшись. Закрыл круглую заслонку и принялся прислушиваться, как пламя ревет. Тихо показалось. Я туда опять газет, смоченных керосином. Через час золу перемешал с жужелицей, выгреб в ведро и начал убирать следы.