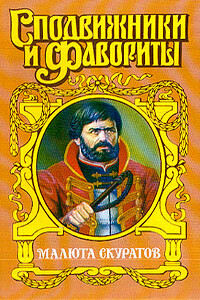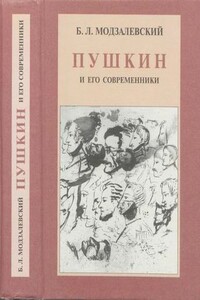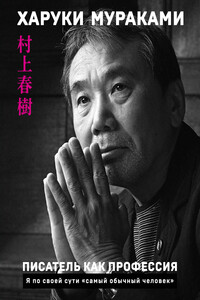Еврейский камень, или собачья жизнь Эренбурга | страница 43
Никогда не забуду запах, который ударил в ноздри, когда я открыл входную дверь. Сразу воспоминание о снеге, о холодном, прочищенном ветрами воздухе улетучилось. Запах, резкий, кислый, с примесью каких-то аптечных препаратов, кружил голову и вызывал тошноту. Мелькнуло: неужели Женя дышит такой отравой каждый день? Но вскоре и я перестал обращать внимание на ядовитую атмосферу. Внюхался, как объяснила Женя. «…Тогда было зверское производство оспенного детрита, — продолжала напоминать мне обстановку Женя в одном из корпусов Бактина. — К маме относились хорошо и не побоялись освободить для нас крольчатник — две комнаты размером в восемь и шесть метров. Часть вещей продали, часть поставили в сарай… Сначала казалось тесно, жить нельзя, а потом привыкли. И жили там четыре года».
В другом письме Женя подробнее остановилась на своеобразном быте, который сформировался в крольчатнике, как она ласково называла квартирку на втором этаже рядом с лабораториями: «Мама заведовала оспенным отделом. Вообще, она заведовала сперва дифтерийным отделом. Но он почему-то считался более… не знаю даже, как сказать — важным, что ли. Одним словом, когда началась свистопляска с „делом врачей“, ее оттуда сняли, а сюда — на оспенный — поставили».
Женю немного подвела память. Когда я жил в Томске, мать Жени уже заведовала оспенным отделом, а, возможно, свистопляска в Бактине началась не одновременно с публикацией сообщения о врачах — убийцах в белых халатах 13 января 1953 года в «Правде». Душиловка готовилась загодя в специализированных коллективах.
«Было обидно и трудно, потому что оспенный детрит получали таким образом: брали молодую нетель и прививали ей оспу, предварительно убрав шерсть пастой. Струпья оспы с живой жертвы — иначе не сохранить вирус — соскребывали скребками. Корова страшно мычала — мама просто не могла слышать. Потом ее забивали, не маму, конечно, а нетель, и из зараженного мяса варили среды для других вирусов и микробов. Мама начала думать, как сделать по-другому», — писала Женя мне с живой и остро переживаемой болью.
«Дело врачей» разворачивалось, когда я уже уехал из Томска. И все упомянутые события оказались вне поля моего зрения, но я отчетливо помню, как раздавалась из уст матери Жени критика дифтерийного отдела вперемешку с мечтой об облегчении участи коров. Боль в горле и жалобное мычание — вот лейтмотив ее споров с не присутствующим в крольчатнике противником. Тут же обсуждалась чеховская «Попрыгунья», Осип Дымов, Рябовский и Исаак Левитан. В крольчатнике начинало тянуть палым листом, и этот аромат повисал где-то под небесным куполом над волжскими просторами, перемещаясь потом к нам за Урал в Центральную Сибирь. Оспенный детрит побеждал дифтерию и боль в горле. Мычание коров возвращало нас на землю. Реальность поглощала художественную литературу, что, впрочем, происходило и в нормальной жизни. Поглощала, но не без остатка.