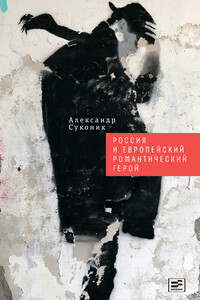Достоевский и его парадоксы | страница 129
Глава 17
Преступление и наказание
Несколько слов о том, почему я отрицательно отношусь к манере писать о Достоевском с экзальтацией, а также критика книги Бахтина на материале «Преступления и наказания».
Поклонники Достоевского – по крайней мере в России – это особенный народ, таких людей не найдешь среди поклонников Шекспира или Толстого, Гюго или Диккенса. Вообще ни у одного из великих писателей европейской культуры нет подобных поклонников и поклонниц, которые в своей экзальтации напоминают женщин, поклявшихся до гробовой доски поклоняться какому-нибудь тенору и получающих от этого поклонения неизъяснимое блаженство. Тут превалирует восторг перед «высоким и прекрасным», который, однако, идет не от эмоций, не от чувства эстетического, но от умственной религиозности – той самой, которой Достоевский не доверял, называя ее в «Записках из мертвого дома» начетнической, постоянно записывая радикальный парадокс, что «ум и вера несовместимы». Такими людьми создавалась традиция прочтения Достоевского в русской т. н. идеалистической мысли, для которой «высокое и прекрасное» воплощалось в Достоевском, а «низкое» в Чехове.
Литературовед С. Бочаров в одной из своих статей приводит слова Анненского о Чехове, как о «сухом уме», который «хотел убить в нас Достоевского». Эта фраза, как никакая другая, выворачивает на обозрение изнанку способа мышления, о котором говорю. Какой человек в здравых эстетических чувствах может назвать автора «Трех сестер» или «Черного монаха» сухим умом? Причем вообще ум к художественности? Рационал Анненского был чисто умственно-знаковый: читая Достоевского, он вычитывал у него умом религиозные знаки, которых начисто не было в творчестве Чехова, и эти знаки воспламеняли его чувства.
Таковы были у нас в девятнадцатом веке создатели «высокой» (читай высоко-религиозной) традиции прочтения Достоевского, таковы были их последователи-шестидесятники (тот же С. Бочаров). У подобных людей не чувства воспламеняют ум, но догматический ум воспламеняет чувства, и потому бенгальский огонь этих чувств, повторю, не имеет ничего общего с чувством эстетического, а только прикрывается им.
И тут Бахтин предстает как последний «дореволюционный» (сформированный в «том» времени) представитель подобного подхода к творчеству Достоевского.
Иностранцы, да и вообще люди, мыслящие рационально, могут удивиться, почему я причисляю ученого-филолога, который как будто отказывается в своей книге от идеологического подхода (на самом деле до смешного не отказывается), к таким мыслителям, как Бердяев или Розанов. Я приведу картинку.