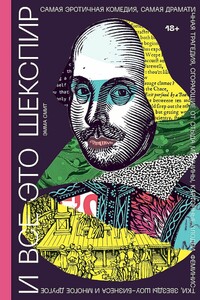Достоевский и его парадоксы | страница 128
Когда я в молодом возрасте читал в первый раз «Записки из подполья», меня привело в недоумение другое: сцена, когда Лиза плачет за ширмой, а герой заявляет, что теперь ей стало окончательно ясно, что он неспособен любить. Я и так и эдак ломал голову над непонятным мне заявлением героя: «В этот раз она уже все знала. Я оскорбил ее окончательно… но нечего рассказывать». Как так нечего рассказывать?? Шутит он что ли, Достоевский? Если есть, что рассказывать, то именно это! Как можно во время полового акта доказать женщине, что ты ее не способен любить – если только ты не теряешь мужскую силу? Я уже был достаточно знаком с жизнью, чтобы знать, какие только половые извращения не приходится повидать проституткам в их профессиональной жизни. Поэтому я ломал голову, каким образом мог герой повести во время совокупления «оскорбить окончательно» проститутку Лизу, если она действительно «пришла его любить»? Какое такое действие он мог произвести, чтобы «она догадалась, что порыв моей страсти был именно мщением, новым ей унижением, и что к давней моей почти беспредметной ненависти прибавилась личная., завистливая к ней ненависть»? Да ведь любую грубость, любую половую странность она должна была бы принять с еще большей страстью за проявление любви, это было так ясно, тем более что «да и забитая она была такая, бедная»!
Моя ошибка состояла в том, что я не понимал, что прикладываю к повести Достоевского критерии поэтики натурального реализма, между тем как особенность поэтики Достоевского состоит в том, что в ней постоянно смешиваются тут жесточайший психологический реализм а-ля Стендаль с условным романтизмом а-ля Дюма-отец. Смешиваются то ли напрямую по сентиментальному «высокому» вдохновению, то ли по осознанному писателем издевательски ироническому расчету. Если страницей раньше, когда герой объявлял, что только любящая женщина могла понять, что он несчастен, допускалась романтическая натяжка психологического толка, финальный эпизод стоял уже на натяжке физиологической, такого рода натяжке, на которой стоит эпизод в «Трех мушкетерах», когда миледи «не замечает» в постели разницы между своим любовником и Д’Артаньяном. Но Дюма-то был целостен в стилистических условностях своего времени, Достоевский же бездонно сложен, не только по отношению к своему, но по отношению ко всем временам. Повторю: можно ли хоть с какой-то долей уверенности сказать, пишет ли он последнюю сцену напрямую или с подспудной издевкой? Найдутся люди, которые смогут, но я не могу…