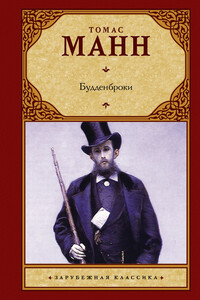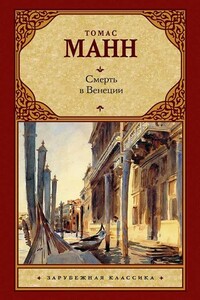Поздние новеллы | страница 69
Китона охватил исторический восторг. Он нашел все «splendid» и «excitingly continental». О dear,[38] вспомнить только его прозаическую родину! Там не увидишь ничего рассыпающегося в аристократическом изяществе, по причине нехватки курфюрстов и ландграфов, которые, к чести собственной и к чести культуры, имели возможность суверенно потакать своей страсти к роскоши. Впрочем, он все-таки повел себя довольно дерзко по отношению к почтенно застывшей во времени культуре, для увеселения ожидающих ловко взобравшись на спину караульному льву, хотя там был острый колышек, как бывает на игрушечных лошадках, откуда можно снимать всадника. Китон ухватился за него обеими руками, выкрикивая «Hi! On, old chap!»[39] и делая вид, будто пришпоривает зверя; в своем задоре он и впрямь не мог явить собой более симпатичного и молодого зрелища. Анна с Эдуардом старались не смотреть на мать.
Тут заскрипели засовы, и Китон поторопился слезть со скакуна, поскольку кастелян, мужчина с пустым закатанным левым рукавом и в военного образца брюках, судя по всему, пострадавший на войне унтер-офицер, утешенный этой мирной должностью, распахнул створку двери центрального портала и открыл доступ в замок. Он встал в высоком проеме, пропуская публику и выдавая входные билеты, которые умудрялся еще надрывать единственной рукой. При этом он принялся говорить, принялся с перекошенным ртом сиплым, севшим голосом произносить заученные наизусть и сотни раз повторенные слова: что пластический декор фасада выполнен скульптором, выписанным из Рима лично курфюрстом, что замок и парк являются произведением французского зодчего, что речь идет о самом значительном на Рейне памятнике рококо, демонстрирующем, правда, уже переход к стилю Людовика XVI, что в замке насчитывается пятьдесят пять жилых помещений, что обошелся он в восемьсот тысяч талеров, — и так далее.
Вестибюль дохнул затхлым холодом. Там стояли наготове большие, похожие на лодки войлочные шлепанцы, куда под всеобщее дамское хихиканье пришлось влезть, дабы пощадить ценный паркет, действительно составлявший почти единственную достопримечательность гостиных и салонов, по которым, неуклюже шаркая и скользя, посетители проследовали за одноруким докладчиком. Интарсии с различными от помещения к помещению узорами образовывали в центре всевозможных родов звездчатые формы и цветочные фантазии. Их блеск подобно тихой воде впитывал тени людей, роскошной гнутой мебели, а высокие зеркала между золотыми, увитыми гирляндами колоннами и натянутые на золотых рейках шелковые полотнища в цветочек всё перебрасывали друг другу отражения хрустальных люстр, нежной потолочной живописи, медальонов, охотничьих и музыкальных эмблем и, несмотря на отдельные слепые пятна, еще будили иллюзию непредсказуемости и необозримости разбегающегося пространства. Неподотчетная роскошь, безусловная воля к наслаждению явствовали из неумолчно журчащего изящества и позолоченной витиеватости, связанных, удержанных лишь нерушимым стилем породившей их эпохи. В круглом банкетном зале, где в нишах по кругу стояли Аполлон и музы, интарсии паркета превратились в мрамор, подобный тому, что облицовывал стены. Розовые амуры раздвигали нарисованный занавес купольного отверстия, сквозь которое падал дневной свет и с галереи которого, как доложил замковый страж, к участникам застолья некогда слетала музыка.