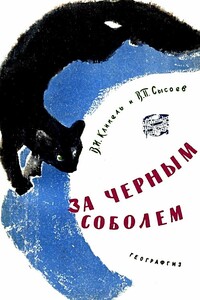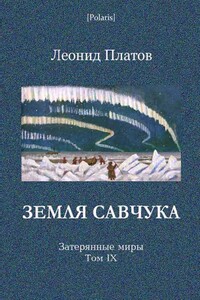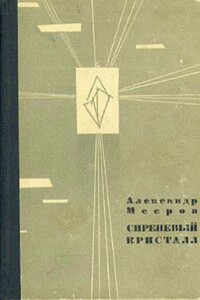На Золотой Колыме. Воспоминания геолога | страница 27
В те далекие времена мы по молодости лет частенько излагали наши мысли и чувствования в стихотворной форме. В сатирической поэме «Шуриада», отображавшей нашу жизнь, было уделено внимание и Тарасову.
Народ мы были молодой, зубастый, за словом в карман не лазали, к такого рода начальству почтения не чувствовали, и Тарасов, донимаемый нашими насмешками, вскоре отделился от нас и вплоть до сплава ехал обособленно.
Путь до места сплава не баловал нас. Это была унылая, однообразная дорога по узкой тропе среди болотистых просторов, тяжелая, выматывающая силы. Чахлые лиственницы, топкий моховой покров, одуряющий запах багульника и комары, комары, комары. Обстановка резко менялась, когда мы подходили к берегу реки. Здесь расстилались чудесные тополевые рощи, в изобилии росли шиповник, красная и черная смородина, костяника и жимолость, а на сырой земле здесь и там отчетливо виднелись отпечатки когтистых медвежьих лап, на которые мы взирали с почтительным любопытством.
Карты у нас не было, и мы шли, полностью полагаясь, на проводников. Названия многочисленных ключей и речек, чуждые нашему уху, ничего нам не говорили, и мы очень смутно представляли себе, где находимся.
Постепенно поднимаясь вверх по долине Олы, мы свернули в один из ее притоков и стали приближаться к Охотско-Колымскому водоразделу.
Здесь мы впервые встретились с людьми. На небольшой полянке около берега речки стояло несколько тунгусских юрт, похожих на вигвамы североамериканских индейцев, как их изображают на картинках.
Остановившись в полукилометре, мы направили к тунгусам делегацию с дарами — немного чаю, сахару, табаку и конфет. У них мы попросили на некоторое время небольшой невод, сушившийся на кольях около стойбища.
Затянув невод в одном из омутов, в прозрачной глубине которого смутно мелькали крупные рыбы, мы в первую же тоню вытащили свыше тридцати крупных кетин. Однако это была уже не та кета, которую мы видели в устье Олы. Та была серебрянка — кета, только что зашедшая из моря в реку, красивая, упитанная, бойкая рыба серебристого цвета. За короткое время она сильно изменилась. Рыба, пойманная нами в верховье Олы, резко отличалась своим внешним видом — тощая, с уродливой головой и торчащими зубами, в шрамах и каких-то белёсых пятнах на красноватых боках, с избитыми, ломаными плавниками. Это была так называемая зубатка, обреченная рыба, которая, пройдя длительный путь вверх по реке, преодолев многочисленные преграды и препятствия, теперь готова была выполнить свой биологический долг — выметать икру и погибнуть. Некоторые экземпляры из попавших в невод уже выметали икру. Это было страшное зрелище: слепые, покрытые какими-то лишаеобразными пятнами, еле двигающиеся, буквально полумертвые, они своим видом внушали ужас и отвращение. Впрочем, и остальная рыба, еще не успевшая выметать икру, была немногим лучше.