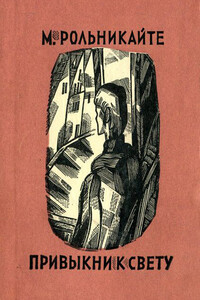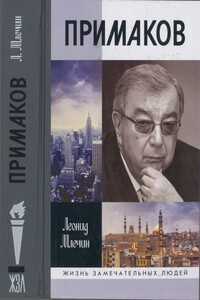Это было потом | страница 10
Я ВЕРНУЛАСЬ…
Ночью поезд остановился. Кто-то отодвинул дверь теплушки. Я не сразу поняла, что уже Вильнюс, — вместо знакомого вокзала в темноте чернела громада развалин. И когда спрыгнула на землю, ничего не узнала — рядом с этими развалинами стоял обыкновенный барак, а по обеим сторонам прежней привокзальной улицы лежали горбатые чудища руин. Какой-то военный велел всем пройти в помещение временного вокзала, как он назвал этот барак: выход в город до шести утра запрещен, — комендантский час. В бараке тускло горела лампочка. Пахло свежеструганными досками. В углу кто-то спал. Мои попутчики тоже стали устраиваться на полу подремать. Я последовала их примеру, — подложила под голову свой холщовый портфельчик и легла. Спать не хотелось. Папа уже совсем-совсем близко. Наверно, спит. И не знает, что я здесь. Мира тоже не знает. Скоро, утром, я их увижу. Больше не буду одна. Только бы он ни о чем не расспрашивал. Если расскажу, ему будет больно. Хотя про гетто Мира ему, наверно, уже рассказала. Но больше она ничего не знает. Ей же удалось выбраться из гетто до его ликвидации, и она не знает, что в последнюю ночь, когда нас согнали в тот большой овраг на Субачаус, и мы там всю ночь просидели под дождем, я держала Рувика на коленях, и он во сне вздрагивал, — оцепившие овраг охранники то и дело пускали ракеты. А Раечка спрашивала маму: "Когда расстреливают — больно?" И про Штрасденгоф я папе не стану рассказывать. Ему будет страшно, что я там таскала и дробила камни, что покатившаяся под откос вагонетка с булыжниками чуть не раздавила меня. А когда за побег нескольких девушек брали на расстрел каждую третью, и эсэсовский офицер уже приближался, мне показалось, что я девятая… шестая… Но была пятой. Взяли стоявшую рядом Машу Механик. О Штуттгофе тем более не буду рассказывать. Не надо папе все зто знать. Нет, ни папе, ни Мире я ничего не расскажу. И маме, если вернется, не расскажу.
Наконец за окнами барака стало совсем светло, и нас выпустили. Теперь развалины по обеим сторонам улицы уже не казались, как ночью, горбатыми чудищами. Теперь это были груды каменных глыб, битого кирпича, железных прутьев. Впереди, на улице Шопена, дома уцелели. Неподалеку раньше жил учитель Йонайтис. Если бы не он, мы бы в гетто еще больше голодали. Однажды, это было еще до того, как нас заточили в гетто, он от кого-то узнал, что ночью будет облава на евреев. Пришел предупредить и остался ночевать. Когда солдаты забарабанили в дверь, он, впустив их только в переднюю, спокойным голосом заявил, что никаких евреев тут нет, их давно увели. Теперь здесь живет он. А мы сидели притаившись всего через две стены отсюда, в родительской спальне. И было очень страшно, что они могут ему не поверить, и захотят посмотреть сами… Потом, в гетто, он уже, конечно, не мог нас защитить. Но помогал едой. Время от времени подходил к воротам и, всякий раз рискуя жизнью, умудрялся нам передать то буханку хлеба, то еще что-нибудь. Мы этому хлебу, конечно, радовались, но очень боялись за него. Мама его однажды даже попросила больше не приходить. И еще попросила, чтобы он из всех папиных книг, которые мы еще до гетто отнесли к нему, вырезал штампик, который стоял в правом углу первой страницы: Д-р юр. Г.Рольникас. Теперь Йонайтис мог бы подготовить папу к тому, что я приехала. Ведь старый Казимеж говорил, что его надо подготовить. Но я не знаю, где наш учитель теперь живет. Еще в первую зиму он вместе с хлебом передал письмецо, что переехал на другую квартиру, но адреса там, кажется, не было… На этой, Садовой, тоже почти все дома целы. Только немного постарели. Но я их узнаю. И балконы, и подворотни… Я в Вильнюсе. Немцев здесь больше нет. Не надо бояться, что меня узнают, заберут. Я снова могу ходить по тротуару и без желтых звезд. Свернув на Руднинку, еще издали увидела, что поперечного забора, за которым начиналось гетто, нет. Нет и всей левой стороны улицы, вместо нее — одни развалины. Я дошла до ворот. То есть до того места, где тогда были ворота. Их открывали только чтобы выпускать нас колоннами на работу, а вечером впускать обратно… Теперь я шагнула сквозь пустоту и оказалась в гетто. Справа те же дома. И камни мостовой — те же. А развалины слева кажутся упавшими друг на друга надгробиями. Мы жили в этом, первом от ворот доме. Я вошла во двор. Он остался таким же. Из этого крана на углу мы брали воду. А по той, наружной, лестнице поднимались в свой угол. Мама наше жилье так и называла — углом. Мы на самом деле занимали только угол, — в комнате жили еще четыре семьи. И в соседней, маленькой — три. А одна семья жила на кухне. Теперь в этой квартире просто живут другие люди. И, может быть, даже не знают, что тут было… Я снова вышла на улицу. Брела мимо знакомых домов, подворотен, окон. Только теперь на них белеют занавесочки, на подоконниках стоят цветы. А двор "Юденрата" вовсе не такой большой, каким казался тогда. Лестница, где в ту страшную ночь шла регистрация желтых "шайнов"