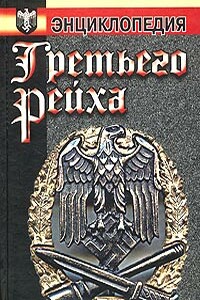Красные тени | страница 19
— Ну, а Лев Николаевич? — меня положительно начало занимать это своеобразное литературоведение.
— Не, там надежно было все прихвачено да ниткой суровой перевязано, — а вот жажда в газу походить была зверская, да все к краешку ближе, да с загляделками, чтоб внутрях захолонуло, вот всю жизнь брешь в себе и протирал… Протер-таки, ан не успел, помер, слава создателю.
— Ас Федор Михалычем как, протер? — мне уже было по-настоящему любопытно.
— Сдюжил… — старик на мгновение замолчал, словно и впрямь припоминал что-то. — Занятный, говорю, был мужичина. Все зло искал мировое, а оно… через него… аж скулило.
— Так значит есть оно, зло мировое? — съерничал я, разозлившись на бред стариковый.
Подумал, каково же было Пифагору среди греков светлых, с его рассказами о прошлых воплощениях. Нет, обижать старика не надо… Может, ему проявиться больше некуда, одно и осталось — фантазии.
— Фантазии, зло твое… Нету зла никакого. Мечта. Еще неясная, уже прекрасная, та, что вперед кличет. Мечта прекрасная, а человек — тварь ограниченная, и в будущую жизнь, как ни крути, не верит. А мечта манит. Давай сейчас ее, да где возьмешь. По сторонам — г — зырк. Мешают. Эти вот. Сюда их. Препятствуют благу народному. Судом их скорым и к стенке…
— Нет, не может быть, чтоб зла не было, — противился я иезуитской логике.
— Вот братство Игнатия, скажу тебе, преуспело, зло ищучи. Во имя Христово не одних только женщин — детей, случалось, по наветам жгли. Одной стареющей тетке, в Женеве дело было, при Кальвине Уже, не понравилось, что племянница хорошенькой растет… Нашли… Что ты думаешь? Родинку около срамного места. Sigillum diaboli, печать дьявола, значит. Иголочкой се, а до этого уже так девчоночку затыркали, что она молчит — слезы только. Доказательство. Пытки. Признание. Костерик разложили. Хорошо хоть хворост горожане собрали посуше. Смилосердствовали.
Я делал рукой пассы, в тщете пытаясь найти неопровержимое свидетельство.
— Пустынно стараешься, любезный мой друг. Скажи, есть ли грех тяжче предательства, да еще с элементами отцеубийства.
Я отчего-то вспомнил Эдипа, вытекающие белки его глаз.
— Далече отправился. Ты в детстве в чьем пионерлагере был?
Я невольно ойкнул, это уже не игрушки. И дружина моя пионерская тоже его имя носила. И портрет у меня дома висел. Как же, герой.
— весело пропел старик и осушил рюмку.
— Сметлив народец, а скажу тебе, ежли частушки есть — все, легенда, фольклорный герой, и чисткой да переоценками его из памяти народной не вылущишь… — Старик хлопнул еще одну, утерся, не закусывая. — Конечно, герой, и без шуточек. Павлик Морозов — пионер-герой. Только герой красного, слышишь, не белого покрова. Ох, да что я в историю-то за примерами лезу? Скажи, ты сейчас чего кушал, телятинку в соусе венском? Емеля! — хлопнул в ладоши старик и снова оборотился ко мне. — А знаешь ли ты, что представляла собой сия тварь, пока ее не закололи специально, я подчеркиваю, специально для тебя. Вы же, судари, парную заказывали!