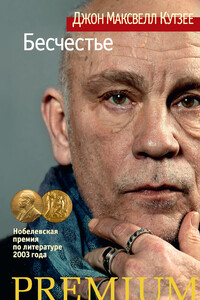Лабиринты | страница 63
остался прежним: монументальные аллегории, играющие мускулами швейцарцы, женщины, исполняющие что-то эвритмическое, я никогда не находил их привлекательными. Картина Беклина, которую я так любил, «Штиль на море», исчезла, Марк[38] – пустившаяся вскачь желтая корова с васильковым пятном на боку, когда-то вызывавшим у меня восхищение, – тоже отсутствовал (или эта картина существовала только в моем воображении?). Зато оказались на месте Клее, Брак, Хуан Грис,[39] с ними ты забываешь о времени, и снова окунаться в его поток бывает почти больно. Возле Исторического музея со мной заговорил какой-то пожилой человек; обратившись на «ты», он насмешливо спросил, уж не собрался ли я заняться историческими исследованиями, и, на ходу бросив, что он-де спешит на заседание, нырнул в боковую дверь. Понятия не имею, кто это. Мы вместе учились в гимназии? В какой? Или в университете? Залы Средней Азии были закрыты. А я-то предвкушал радостную встречу со всадниками в доспехах, которых когда-то разглядывал часами. Или всадник был только один? Обескураженный, я долго стоял перед макетом, на котором город был воспроизведен в том виде, какой он имел до или сразу после наполеоновских войн: идиллическим. По Кирхенфельдскому мосту я вернулся в старый центр – полтретьего, три, полчетвертого, четыре, зашел в кино; начался уже фильм или нет, мне было безразлично. Кинотеатры невероятно расплодились, вокруг привокзальной площади киношки просто на каждом шагу, и везде одно и то же – секс или карате, но я-то все же угодил на «Историю О», высокой пробы порно. Вообще-то, было стыдно идти на этот фильм; я миновал несколько киношек, но раз уж я решил пойти в кино, то и пошел. Фильм уже начался, на экране бесновались вовсю, зал был почти пустой, в ложах веселилась и вопила молодежь, в партере на приличном расстоянии друг от друга там и сям торчали седовласые головы – профессора или пасторы, а может, просто немолодые очкастые мужчины профессорско-пасторского вида – поди различи, где там правда была и где видимость, – вроде бы им стыдно было, и распространяли они подчеркнуто интеллектуальную ауру; я с легким ужасом заметил, что и сам я один из них, тоже в очках, тоже седой. Мир, в который я, заблудившись, попал, изменился не в одночасье, а постепенно, но по милости этого постепенного и непрерывного изменения я, человек, как и все мы, в силу своей натуры не способный изменяться, остался в прошлом, словно щепка, выброшенная волнами на затерянном побережье. И если теперь на экране передо мной разыгрывалось то, что я когда-то тайком покупал в сомнительных букинистических лавчонках, а потом давал в пользование приятелям, если это некогда запретное, а теперь бесконечно отсталое порно не вызывало у сидящих в ложах гимназистов и рабочих парней ничего, кроме неудержимого смеха, то они, сами о том не подозревая, смеялись не над теми, кто спаривался на экране, а над нами, седовласыми, очкастыми, во все глаза глядевшими на эти дела из другого времени, совершенно другого, настолько другого, что я вдруг с испугом подумал: способен ли я, зная лишь тот мир, который сформировал меня самого, находить формы, чтобы воплощать вот этот мир, в который меня нынче занесло? Более того, способен ли я хотя бы самого себя сделать понятным для этого мира? Ну что этому миру скажут мои атланты, лабиринты и минотавры? Задавшись этим вопросом, я почувствовал: все, что я предпринимал в своей жизни, чтобы мир на сцене, на писчей бумаге или на листах для рисования сделать материалом для моих сюжетов, превращая и претворяя мир в истории и фигуры, – все эти попытки безумно смешны. Настолько смешны, что я тоже засмеялся, я хохотал над ситуацией, в которую меня поставила современная жизнь, потом над самим собой, человеком, сформированным прошлым, без которого не может быть настоящего, никакого, даже вот этого, и, наконец, над фильмом – его ненамеренный комизм был в том, что первородного быка – bos primigenius, от которого Пасифая зачала Минотавра, более того, быка, чья творческая потенция и учинила в незапамятные времена ту сомнительную chose,
Книги, похожие на Лабиринты